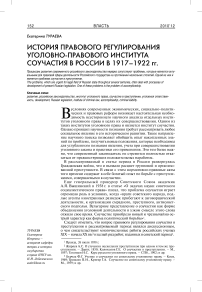История правового регулирования уголовно-правового института соучастия в России в 1917-1922 гг
Автор: Тураева Екатерина Игоревна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2010 года.
Бесплатный доступ
Процессам развития современного российского законодательства нередко сопутствуют проблемы, которые являются актуальными для правовой сферы деятельности Российского государства на протяжении нескольких столетий. Одной из них и является проблема соучастия в преступлении.
Развитие, российское законодательство, институт уголовного права, соучастие в преступлении, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165180
IDR: 170165180
Текст научной статьи История правового регулирования уголовно-правового института соучастия в России в 1917-1922 гг
В условиях современных экономических, социально-политических и правовых реформ возникает настоятельная необходимость всестороннего научного анализа отдельных институтов уголовного права в целях их совершенствования. Одним из таких институтов уголовного права и является институт соучастия. Однако принцип научности познания требует рассматривать любое социальное явление в его историческом развитии. Такое направление научного поиска позволяет обобщить опыт накопленных знаний по проблеме, получить новые положения, которые необходимы для углубленного познания явления, учета при совершенствовании уголовного закона и практики его применения. Это тем более важно, что современный законодатель не стремится полностью отказаться от предшествующих положительных наработок.
В рассматриваемый в статье период в России развернулась Гражданская война, что и вызвало расцвет групповой и организованной преступности. В связи с этим нормативно-правовые акты того времени содержат в себе богатый опыт по борьбе с преступлениями, совершаемыми в соучастии.
Еще генеральный прокурор Советского Союза академик А.Я. Вышинский в 1938 г. в статье «О задачах науки советского социалистического права» писал, что проблема соучастия играет огромную роль в условиях, когда «враги советского народа, подлые агенты иностранных разведок прибегают к заговорщической деятельности, к организации смрадного, преступного, антисоветского подполья. Вульгарное представление о соучастии как форме объединения уголовной деятельности в узком смысле этого слова отжило свое время. Соучастие приобрело новый и чрезвычайно острый характер как форма политической борьбы»1.
Следует отметить, что вопрос правового регулирования соучастия в преступлении в рассматриваемый период являлся дискуссионным, о чем свидетельствуют многочисленные работы российских ученых XIX – начала XX вв.2 и целый ряд работ, изданных в советский период3.
Основным источником права в Советском государстве в период с 1917 по 1922 г. являлись революционное правосознание, декреты и постановления Совета Народных Комиссаров и ВЦИКа.
Нормы советского уголовного права о соучастии развивались в тех декретах, которые определяли борьбу со следующими видами преступлений, представляющими особую общественную опасность для социалистического государства: 1) контрреволюционные преступления, 2) спекуляция, 3) должностные преступления, 4) некоторые виды воинских преступлений, 5) имущественные преступления против социалистической собственности и против собственности граждан. Советское правительство требовало принятия самых решительных мер по ликвидации заговоров, мятежей, восстаний, представляющих собой, с точки зрения пришедших к власти большевиков, формы коллективной преступной антисоветской деятельности. Особую опасность в этой связи представляли организации, которые ставили своей целью свержение советской власти как в центре, так и на местах1.
Трудно согласиться с мнением советских ученых, что постановления о соучастии и соучастниках встречаются в первоначальный период после Октябрьской революции 1917 г. применительно к отдельным составам преступлений2, но понятие «соучастие» на законодательном уровне не было выработано вплоть до 1958 г.3, т.к. уже в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г. и Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. даются определения отдельных видов соучастников.
Обращение Совнаркома от 26 ноября 1917 г. о борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова, поддерживаемых Центральной радой, призывало рабочих, солдат и крестьян к тому, чтобы «контрреволюционные заговорщики, казачьи генералы и их кадетские вдохновители почувствовали железную руку революционного народа»4. Обращение непосредственно разрешило вопрос об ответственности организаторов контрреволюционных преступлений: «…вожди заговора объявляются вне зако- на». Об ответственности организаторов и подстрекателей к совершению контрреволюционных преступлений говорила инструкция НКЮ о революционных трибуналах, изданная 19 декабря 1917 г.5 В ней на первом месте указывалось, что рассмотрению революционного трибунала подлежат дела о лицах, которые организуют восстание против власти рабоче-крестьянского правительства, активно противодействуют последнему или не подчиняются ему или призывают других лиц к противодействию или неподчинению ему.
В постановлении Кассационного отдела ВЦИКа «О подсудности революционных трибуналов» от 6 октября 1918 г. вновь говорится об организаторах и других участниках контрреволюционных выступлений6.
Что касается второго вида преступлений, то в обращении Совета Народных Комиссаров от 15 ноября 1917 г. «О борьбе со спекуляцией» впервые говорилось о пособниках как особом виде соучастия: «Продовольственная разруха, порожденная войной, бесхозяйственностью, обостряется до последней степени спекулянтами, мародерами и их пособниками на железных дорогах, в пароходствах, транспортных конторах и пр.»7
Об основных видах соучастия при совершении должностных преступлений специально говорилось в декрете Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г., который устанавливал уголовную ответственность за получение и дачу взятки не только в отношении исполнителей, но и в отношении других соучастников – подстрекателей, пособников и прикосновенных лиц8. Таким образом, этот декрет, по сравнению с указанными выше законодательными актами, более четко и подробно формулировал виды соучастников.
Декрет о взяточничестве устанавливал также и другой чрезвычайно важный принцип уголовной ответственности за соучастие. Этот принцип состоял в том, что подстрекатели, пособники и прикосновенные лица подлежали такому же наказанию, как и исполнитель. Установление одинаковой ответственности в отношении исполнителей, подстрекателей, по- собников и прикосновенных лиц имело исключительно важное значение, ибо это давало возможность органам социалистического правосудия вести более эффективную борьбу с таким общественно опасным преступлением, каким являлось взяточничество, применяя суровые меры репрессии, такие как лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенное с принудительными работами, не только к взяткодателям и взяткополучателям, являвшимся исполнителями, но и к другим его участникам – подстрекателям, пособникам и прикосновенным лицам.
Соучастники, пособники, подстрекатели (как то: призывающие устно, письменно или печатно к пользованию означенным в пункте 1 способом возбуждения тревоги и т.п.) и вообще прикосновенные лица отвечают перед революционным трибуналом наравне с главными виновниками»1.
Таким образом, в этом постановлении говорилось не только об ответственности подстрекателей, пособников и прикосновенных лиц за совершение данного преступления, но впервые в общей форме указывалось и на признаки подстрекательства. Кроме того, указанное постановление специально подчеркивает, что все соучастники отвечают одинаково, как и т.н. виновники. Более того, ответственность распространяется и на лиц, прикосновенных к преступлению.
Впервые в советском законодательстве постановления о соучастии в качестве самостоятельного института Общей части уголовного права были сформулированы в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Вопросам соучастия посвящен разд. V «Руководящих начал» (ст. 21–24)2. Статья 21 указывает, что «за деяния, совершенные сообща группою лиц (шайкой, бандой, толпой), наказываются как исполнители, так и подстрекатели и пособники. Меры наказания опреде- ляются не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния».
Следует указать, что подобное определение соучастия, как правильно отмечал А.Н. Трайнин, ограниченно в двух на-правлениях3. Во-первых, оно охватывает лишь соучастие в форме участия в организации, т.е. соучастие sui generis , и участие в толпе. Соучастие в собственном смысле этого слова остается, по существу, за рамками данного определения. Во-вторых, оно ограничивает критерий наказуемости соучастников. Это ограничение критерия ответственности приводит фактически к отрицанию института соучастия в целом, так как игнорирование степени участия того или иного лица в преступлении и выдвижение на первый план его общественной опасности делает ненужным существование специального института.
Такое ограничение тем более непонятно, что «Руководящие начала» противопоставляют степень участия в преступлении степени опасности преступника, в то время как в действительности степень участия преступника в осуществлении преступного деяния сплошь и рядом является существенным показателем его опасности.
В остальных статьях «Руководящих начал» дается определение отдельных соучастников. Статья 22 устанавливает, что «исполнителями считаются те, кто принимает участие в выполнении преступного действия, в чем бы оно ни заключалось». Статья 23 указывает: «Подстрекателями считаются лица, склоняющие к совершению преступления». Характерным в этом определении является использование термина «склоняющие», а не «склонявшие», как в последующих законодательных актах. Следовательно, законодатель признавал наказуемым уже сам факт склонения того или иного лица к преступлению, чем значительно расширял рамки подстрекательства. Статья 24 подробно определяет пособников преступления: «Пособниками считаются те, кто, не принимая непосредственного участия в выполнении преступного деяния, содействует выполнению его словом и делом, советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием преступника или следов преступления, или попустительством, т.е. непрепятствованием совершению преступления».
Отметим, что «Руководящие начала» акцентируют внимание на необходимости «при определении меры наказания» в каждом конкретном случае различать, «совершено ли деяние группой, шайкой, бандой или одним лицом» (ст.12); тем самым подчеркивается большая общественная опасность деяний, совершенных в соучастии1.
Итак, «Руководящие начала» хотя и довольно широко формулировали понятие соучастия, относя к соучастникам, наряду с исполнителями, подстрекателями и пособниками, укрывателей и попустителей, однако, по мнению некоторых исследователей, по сравнению с предшествующими законодательными актами в них это понятие несколько сужается, т.к. из числа соучастников исключаются недоносители2.
Дальнейшее развитие институт соучастия нашел в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. Кодекс дал перечень отдельных видов соучастников и в качестве общего положения установил, что мера наказания каждому из них определяется как степенью участия, так и степенью опасности преступника и совершенного им преступления. К соучастникам были отнесены: подстрекатели, пособники, исполнители, укрыватели (ст. 15, 16)3.
Таким образом, следует констатировать, что наметившаяся еще в «Руководящих началах» 1919 г. тенденция к сужению круга соучастников находит более отчетливое выражение в дальнейшем уголовном законодательстве. Также в УК РСФСР 1922 г. по сравнению с «Руководящими началами» давалось более узкое понятие соучастия. Попустители в Кодексе исключены из числа соучастников. Это был шаг, в котором четко выразилась тенденция к разумному ограничению круга соучастников.
Таким образом, следует отметить следующие особенности правового регулирования уголовно-правового института соучастия в преступлении в 1917–1922 гг. в России. Нормы, содержащиеся в правовых актах первых лет советской власти, не давали общего определения понятия соучастия. Они затрагивали лишь некоторые вопросы этого института, применительно к отдельным преступлениям, предусмотренным данными законодательными актами. В частности, определяется круг соучастников, и устанавливаются общие принципы их ответственности. Из числа соучастников выделяются главные виновники, которыми считаются руководители контрреволюционных партий и организаций, зачинщики и руководители заговоров, мятежей, банд, шаек и других преступных сообществ, а также исполнители преступлений. Соучастниками признавались пособники, подстрекатели и все лица, прикосновенные к преступлению. Соучастие трактовалось широко, включая в себя и прикосновенность к преступлению. В декретах и постановлениях СНК и ВЦИКа устанавливалась равная ответственность соучастников и главных виновников, а уже в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г. и Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. прослеживается дифференциация ответственности соучастников.