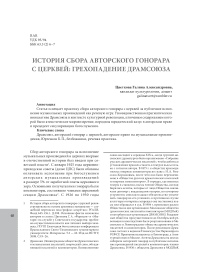История сбора авторского гонорара с церквей: грехопадение Драмсоюза
Автор: Цветкова Галина Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья освещает практику сбора авторского гонорара с церквей за публичное исполнение музыкальных произведений как речевую игру. Узковедомственная прагматическая инициатива Драмсоюза в контексте культурной революции, ключевым содержанием которой было атеистическое мировоззрение, породила юридический казус в авторском праве и прецедент секуляризации богослужения.
Драмсоюз, авторский гонорар с церквей, авторское право на музыкальные произведения, юргенсон б. п, безбожники, речевая практика
Короткий адрес: https://sciup.org/170173908
IDR: 170173908 | УДК: 93/94
Текст научной статьи История сбора авторского гонорара с церквей: грехопадение Драмсоюза
Сбор авторского гонорара за исполнение музыкальных произведений в церквях впервые в отечественной истории был введен при советской власти1. С января 1925 года церковноприходские советы (далее ЦПС) были обязаны оплачивать исполнение при богослужении авторских музыкальных произведений в размере 5% от заработной платы церковного хора. Основными получателями гонорара были композиторы, состоявшие членами церковной секции Драмсоюза2. С 1926 по 1930 годы союза восходит к середине XIX в., когда группой московских драматургов было организовано «Собрание русских драматических писателей», чтобы добиться установления правила ставить в театрах пьесы только с согласия автора. В 1875 г. к обществу присоединились оперные композиторы во главе с Н. А. Римским-Корсаковым, после чего оно было переименовано в «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов». В городах, где имелись театры и ставились пьесы членов Общества, им подбирались агенты, которые от лица Общества заключали договор с владельцами театров, по которому устроитель спектакля давал обязательство уплачивать гонорар на его условиях, в противном случае агент через нотариуса запрещал ему постановку пьесы или обращался в суд. В 1904 г. произошел раскол Общества на две организации: Московское общество драматических писателей и композиторов (МОДПиК) и петербургская организация ДРАМСОЮЗ. Разделенные общества просуществовали до Октябрьской революции и впоследствии были реорганизованы в Московское и Ленинградское общества драматических писателей и композиторов. После революции Драм-союз состоял в ведении Главискусства Наркомпроса РСФСР. Правление находилось в Ленинграде, а Агентурный отдел в Москве. Агенты Драмсоюза на местах собирали авторский гонорар за публичное исполнение произведений писателей и композиторов, членов Драмсоюза. В 1930 г. общества Драмсоюз и МОДПиК
Драмсоюз возглавлял С. Ю. Левик3. Сбор гонорара по всей стране осуществляли агенты Драмсоюза, получавшие до 20% от собранной суммы. Этому сбору активно сопротивлялось православное население. Формальным поводом для протестов был вопрос легитимности сбора, которую так и не удалось доказать. Властям пришлось признать «сбор за использование песнопений под видом оплаты авторского гонорара»4, «явно противоречащим существующему законоположению о налогах и сбора»5 и в 1930 г. прекратить секретной инструкцией ВЦИК6.
События, которые выглядят как юридический казус, имели подоплеку кощунственного поведения. Эмоционально-ценностное напряжение событий было обусловлено аксиоматикой православного сознания, представлением о сверхчувственном источнике религиозного чувства, происхождении самого «авторства» церковной музыки от Духа Святаго. С этой точки зрения предъявление авторских прав к богослужению было, по сути, грехопадением. Верность традиции сакральности церкви побудила приходы сопротивляться сбору, ЦПСы развернули с Драмсоюзом настоящую битву7.
Можно утверждать, что ощущение кощунства всеми участниками событий изначально заставило всю работу по организации сбора провести без особой огласки, а реализацию его ещё более окружить секретностью, и даже прекратить сбор закрытым служебным распоряжением.
В данной статье события сбора раскрываются как состоявшаяся мировоззренческая альтернатива, поворот в общественном сознании, прецедент применения авторского права к богослужению.
Несомненным свидетельством состоявшегося поворота, на наш взгляд, является работа Б. П. Юргенсона «Авторское право на музыкальные произведения»8, которая датируется началом 1930-х гг., т. е. написана в разгар событий, но опубликована усилиями наследников только в 2012 г.
Б. П. Юргенсон ни разу не упоминает о сборе, но его работа звучит его эхом9, он хорошо осведомлен и явно оппонирует сборщикам10.
района Кубанской обл., Н. Волжского края Пугачевского округа (9 церквей), Великих Лук, Новосибирска, Костромы, Кустаная (Соборная церковь) и др./РГАЛИ. Ф.645. Оп.1. Д.398. О масштабах событий ярко свидетельствует факт обращения митрополита Сергия 19 февраля 1930 к председателю Комиссии ВЦИК по вопросам культов П. Смидовичу об отмене некоторых «особенно стеснительных» для Церкви мер правительства, где из 21 пункта вторым был пункт о сборе авторского гонорара с церквей. См.: Прот. В. Цыпин. Русская православная церковь.1925– 1938. М., Изд. Сретенского монастыря. 1999. С. 211–212.
В своей работе Б. П. Юргенсон ставит проблему критерия авторского гонорара за исполнение музыкальных произведений. Он задается вопросом, что, собственно, является «объектом авторского права на музыкальные произведения»? Этой постановкой он, видимо, пытается защитить церкви от произвола сборщиков гонорара, и, невольно, фиксирует точку бифуркации русского православного самосознания — обсуждать проблему взимания авторского гонорара с богослужения становится возможным и необходимым.
В данной статье этот поворот в отношении к церковному пению рассматривается как акция речевой практики Драмсоюза, организованная историческими обстоятельствами — победой атеистической власти11. Драмсоюз, имея в своем составе Церковную секцию, опекая духовных композиторов, часть из которых были священниками, стал субъектом антицерковного похода. Но банальное объяснение трансформации взглядов профанным искусом деньгами представляется поверхностным в отношении сообщества духовной элиты — актора русской культуры, каковым позиционировал себя Драмсоюз, «декларируя» свои взгляды от лица своих членов, принимая решения «общим собранием», действуя «организованным путем»12, «конечно с согласия живых авторов, коим по закону только и принадлежит право распоряжения…суммами»13.
Объяснение поступков Драмсоюза, на наш взгляд, связано с представлением о семиотическом характере реальности, теоретически обоснованном в культурологии ХХ века. В частности, с гипотезой лингвистической относительности, в соответствии с которой реальность, воспринимаемая нами только через призму языка, является совокупностью языковых игр14. Семиотический образ реальности, т. е. реальность опосредованная языком, будучи, по сути, искусственной, иллюзорной реальностью, в этом смысле виртуальной, — более удобен для осуществления замыслов, создавая опору и смысл поступкам. Путем деконструкции виртуальной реальности, созданной Драмсоюзом, анализа его речевой практики можно проследить, каким образом Драмсоюз стал заложником языковых игр революционного времени, изменил свои нравственные установки, деградируя в своих отношениях с церковью. Для определения прагматики речевой деятельности Драмсоюза, прежде всего, важно установить контекст знаковой деятельности Драмсоюза, поскольку Драмсоюзу необходимо было освоить язык, понимать смысл этой реальности, чтобы приспособиться к ней для своих целей.
Контекстом языковой деятельности Драм-союза была революционная атмосфера нетерпимости к церкви. Статус церкви в советском государстве изначально определялся, исходя из марксистской идеологии атеизма. Борьба с религией стала квинтэссенцией культурной революции. Ситуация осложнялась острым противостоянием церкви и власти по вопросам революционного переустройства государства, которое Патриарх Тихон публично сравнил с «печальным опытом вавилонского строительства»15. Демонстративное неприятие религии, антицерковные инвективы определили поощряемую в советской этической сфере социальную норму разрешения агрессии в отношении церкви. Этот этический контекст помог сфокусировать внимание Драм-союза на богослужении, как возможном объекте сбора авторского гонорара.
Генератором идеи сбора авторского гонорара с церквей был «Уполномоченный Зав. Агентурным Отделом Драмсоюза И. В. Стрельников»16.
Формализация и реализация инициативы осуществлялись Драмсоюзом вполне в логике революционной справедливости, как защита прав «тружеников на ниве искусства». Перед Драмсо-юзом стояла очень трудная и небезопасная задача: защищать частные права авторов наперекор общему революционному курсу на обобществление, примененному и к сфере авторского права17.
три года на деле взыскания и собрания авторского гонорара. В тяжелейший момент, в конце 1917 г. побудил путем обращения в Моссовет, театры, прекратившие оплату авторского гонорара, снова начать платить. 2. По инициативе Стрельникова ещё до революции организовано взимание авторского гонорара за эстрадные произведения в г. Москве и Московском уезде. 3. Он сам взимал авторский гонорар по театрам и сценическим площадкам дачных мест. 4. Им, совместно с Шипулинским Ф. П. разработана инструкция от 9 февраля 1919 г., являющаяся основанием для взимания авторского гонорара. 5. Театры, находясь на госдатации, авторам не платили гонорара, возмещая в виде бесплатного их посещения. Стрельников составил таблицу Инструкции о повсеместной плате, приведшую опять-таки к поступлению авторского гонорара. 6. В 1921 г. Стрельниковым организовано повсеместное взимание авторского гонорара с площадок и эстрадных нарпитных учреждений. 7. По личной инициативе Стрельникова организовано повсеместное взимание авторского гонорара за музыкальные произведения, исполнявшиеся в местах религиозного культа. 8. Он инициировал Закон об оплате фортепианной музыки в кино. 9. Им организован институт ревизоров, объединяющих весь СССР и беспрерывно контролирующих работу агентов на местах. 10. Количество агентов с 1925 по 1928 гг. возросло с 180–200 до 500 человек. Оборот Драмсоюза увеличился с 280 тыс. до 500 тыс. рублей в год. 13. Ныне им разработан авторский гонорар за киносценарии. В 1918 г. при полном отсутствии средств Стрельников в зимнее время объезжал на велосипеде районные клубы и театры, чтобы собирать авторские суммы». Среди подписавших Алеманов, Д. и А. Покрассы, Чесноков и др./РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Д. 398. Л. 136–137. При этом, И. В. Стрельников оказался демоном Драмсоюза. Будучи зачинщиком сбора с церквей, он одновременно собирал компромат, который стал основанием для нападок и закрытия Драмсоюза./РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Д. 398. Л. 136–137.
17 В сфере авторского права национализация применялась посредством таких документов, как: Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 года «О государственном издательстве», Декрет СНК от 28 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Декрет СНК от 10 октября 1919 г. «О прекращении силы договоров на приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства», Декрет СНК от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием». Декретом СНК от 19 декабря 1918 были
Действовавший с 1911 года в России закон об авторском праве был отменен, и с 1918 года авторы были лишены права получать гонорар, как это было ранее, по личному договору с издательством или по постановочному договору. На основании декрета Совета Народных Комиссаров от 26.11.1918 г. «О признании литературных произведений государственным достоянием» (действовал до 24.04.1926 г.)18 было установлено, что «за произведения, объявленные государственным достоянием автору при его жизни выдается гонорар, по ставкам Наркомпро-са и Наркомюста. После смерти автора гонорар этот становится государственным достоянием, а наследники его получают содержание в порядке социального обеспечения»19. Непосредственным исполнителем этого закона был Комиссариат Народного просвещения (Наркомпрос). Ему было передано право устанавливать ставки авторского гонорара и получать деньги за исполнение музыкальных произведений, переданных в «общенародное пользование»20. Драмсоюзу для введения нового объекта сбора, нужно было договориться с Наркомпросом, нужно было добиться возвращения авторам права на получение гонорара.
К 1924 году уже имелись положительные результаты переговоров. Так, 2 февраля 1924 г. Нар-компрос установил общие ставки авторского гонорара, 23 октября 1924 г. последовало решение Наркомпроса о распространении его на церкви. 31 декабря 1924 года было подписано постановление о передаче части гонорара в пользу Нарком-проса21. И сразу после этого, в отступление от го- сударственного курса на национализацию, были возвращены авторские права. Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 30 января 1925 года была введена «новая разработка» «Основ авторского права»22. Как фиксирует Б. П. Юргенсон, в законодательстве, несомненно, произошли перемены в пользу автора, состоялось закрепление за ним его исключительного авторского права23.
Приватность переговоров Драмсоюза с Нар-компросом, в ходе которых игнорировались интересы приходов, договоренности о взаимовыгодных условиях дают основание квалифицировать эти переговоры как сделку. Более того, можно утверждать, что в результате состоявшегося торга24 авторское право было куплено Драм-союзом ценой сбора с церквей, об этом говорит хронологическая последовательность подписания актов Драмсоюза с Наркомпросом — сначала подсчитали и поделили деньги, а потом подписали Основы авторского права. Благодаря этому закону, Драмсоюз мог собирать авторский гонорар с церквей, как там выражались, в общий «котел», а затем по своим нормам распределять его между членами Драмсоюза.
Искривление этической оптики Драмсою-за происходило в процессе его адаптации к революционной реальности, которую Драмсо-юз посредством изоморфной речевой практики преображал в виртуальный мир, удобный для осуществления сбора. Инициированные Драмсоюзом метаморфозы в законодательстве по авторскому праву сопровождались введением для обозначения церкви новой нормативногосударственной терминологии, которая, будучи созвучна революционной нетерпимости к церкви конструировала иллюзорный мир, где церковь предстала в образе типичного плательщика гонорара.
Новое определение церкви возникло в логике секуляризированного понимания духовной жизни, вследствие чего духовная жизнь в советском государстве была имплантирована в культурно-досуговую сферу, становилась инструментом самосовершенствования, достижения его высшей ступени — культурности. Посредством новой лексики церковь была транспонирована в институт культуры, типологически поставлена в ряд просветительских и развлекательных учреждений, что позволяло легализовать сбор и даже, как бы, его требовало, поскольку: «Нар-компрос считает, что не имеется никаких оснований ставить учреждения религиозного культа в особо привилегированные условия по сравнению с другими учреждениями»25.
В наркомпросовских и наркомюстовских до-кументах26 церковь стала именоваться «местом религиозного культа» и классифицироваться как «предприятие» по производству «богословских мероприятий». Богослужения признавались специфической продукцией культурной деятельности этих самых «предприятий по производству богословских мероприятий» и стали именоваться «зрелищами культового характера» или просто «зрелищами». В церквях теперь не молились — в них исполнялись «программы церковного богослужения»27. Таким образом, богослужение приравнивалось к светскому концерту, в котором происходило исполнение «музыкальных нумеров», каковыми считались: молитвы («Отче наш» и др.), ектеньи («Господи, помилуй!»), аллилуйи, стихиры, ирмосы, причастны и т. д. Соответственно духовная музыка рассматривалась в формате артефакта, результата профессиональной деятельности. В таковой терминологии совершаемое за Литургией верных исповедание Символа Веры, когда пели, предположим «Верую» Кастальского, превра- щалось в концертное исполнение «музыкального нумера» — авторского произведения. Пение в церкви называлось «художественной частью богословского мероприятия» и из иерархии чувственных знаков — инструмента божественного созерцания — церковное пение перемещалось исключительно в сферу эстетики. Церковный клир и певчие квалифицировались «работниками искусств, участвующими в художественной части предприятия», исполнителями «музыкальных нумеров». Соответственно прихожане при этом становились «потребителями музыкальных нумеров».
Установленное понимание богослужения как акта художественной жизни, как светского концерта создавало возможность экстраполяции юрисдикции авторского права на церковные песнопения, делало нормативным требование выплаты авторского гонорара, естественным оплату исполнения богослужебных авторских произведений «по-концертно»28.
Нравственно-этические проблемы получения гонорара с божественного установления, каковым традиционно считалась церковь, снимались пониманием богослужения как «рядового зрелища». Введенная речевая практика переводила богослужение из сакральной сферы в секулярную, десакрализовала богослужение и, изменяя ценностную модальность, допускала прагматическую переакцентуацию отношений с церковью. Драмсоюз объяснил смысл сбора и оправдал его, декларируя, что перешел к «определению церковного богослужения как некоего рядового зрелища культового характера показа, в котором наемный причт ничем не отличен от наемных работников искусств, получающих свою зарплату от устроителя зрелища и фактически либо заменяет хор, либо в худшем случае соучаствует в церковном пении»29. Теперь духовная музыка в церкви измерялась единицами концертной номенклатуры, как «смешанная программа», «певческий репертуар» и т. д. Для Драмсоюза церковь реализовалась как предприятие, деятельность которого, регулировалась соответствующими таковому нормативами. Так, речевым актом был создан прецедент введения богослужения в круг авторских претензий на гонорар, сделав акт ми- стического единения верующих в «Теле Христовом» объектом материальных отношений.
Совершив перевод богослужения из зоны церковного права в зону государственного права, начав отношения с церковью по поводу «потребления музыкальных произведений», Драм-союз столкнулся с проблемами правовых отношений с церковью-предприятием — «устроителем зрелищ», приходскими советами. Поскольку сбор изначально вводился «распространением на церкви» нормы, прописанной для издательств, театров и т. п., т. е. договорного права и не был прописан для церквей30, постольку актуальными стали неразрешенные правовые вопросы. Как представляется, именно эту не разработанность нормы для церкви, имел в виду Б. П. Юр-генсон, когда писал, что не были решены многие важные вопросы для законной реализации нормы, как например, вопрос объекта авторского права на музыкальные произведения. Он указывал, что из существующей законодательной базы невозможно было «чёткое и целесообразное определение границ авторского права композитора», что связано с природой музыкального творчества и «особенностями техники нотопечатания и нотоиздательства»31. Столкнувшись с проблемами формализации авторского права, Драмсоюз пытался продемонстрировать соблюдение продекларированного правосознания, определить «норматив» для церковных «зрелищ». В связи с этим он озаботился поиском объективных критериев нормы и «в 1926–1927 и 1928 гг. предпринял широкое обследование репертуара в виде нескольких тысяч анкетных (опросных) листов, заполненных разного масштаба церквами»32. Но проведенный опыт не помог разработать объективный убедительный кри- терий. Как считает Б. П. Юргенсон, эта проблема не могла быть решена без детального теоретического обоснования границ авторского права. Удовлетворительным решением для сборщиков могло быть, как на это указывали из приходов, ограничение круга сбора большими церквями и соборами, столичными городами, где действительно пели много духовной музыки. Но в этом случае значительно уменьшалось число облагавшихся сбором «концертных предприятий», т. е. Драмсоюз терял деньги, поэтому в Драмсоюзе даже не обсуждали альтернативы тотальности сбора. Драмсоюз действовал сообразно сложившейся реальности, уяснив, что можно игнорировать протесты приходов, если суметь договориться с властью, чтобы действовать под её покровом. Проблемы приходов и доказательства легитимности сбора присутствовали в суждениях Драмсоюза постольку, поскольку запросы с мест раздражали власть. Драмсоюз конструировал убедительные доводы необходимости сбора только этому адресату, но при этом сам стал заложником своей речевой игры.
Заключив союз с Наркомпросом о передаче ему части денег от сбора, Драмсоюз подписал потенциальное согласие мобилизации его на ниву «общественной пользы». А именно, участника культурно-просветительной работы, на которую Наркомпрос обещал истратить деньги прихожан. Оказавшись в затруднительном положении при обосновании законности сбора, Драмсоюз эту свою общественно-полезную ипостась актуализирует заявлением о передаче части своих гонораров «на поддержку малоимущих клубных авторов»33 и «на иные культурно-просветительские цели»34. Этим высказыванием корректируется смысл сбора. Теперь следует считаться с тем, что, собирая гонорар, Драмсоюз не банально защищают права авторов, а поддерживает социокультурную политику советской власти. Произошло усиление смысловых акцентов деятельности Драмсоюза как института советской культуры. В связи с этим, аксиологические модальности поведения Драмсоюз стали определяться ожиданиями советской общественности, поддержанием его «политического авторитета», как участника культурного проекта советской власти. А учитывая антирелигиозный характер советского культурного просветительства, становится неизбежной переоценка «духовного религиозного искусства» и отмежевание от него, требование чего последовало после огласки сбора немедлен-но35. Драмсоюз адекватно ответил на эти речевые акции в свой адрес. Церковная секция была закрыта, изгнаны композиторы, особенно тесно связанные с церковью. Встраиваясь в систему советских идеологических институтов, Драм-союз наносит удар по церковному музыкальному творчеству, приговаривая духовных композиторов к молчанию на ближайшие полвека, как минимум.
Общим собранием учредителей хоровой секции (Хорсекции) «культовая музыка» относится к рудиментам прошлого, как имеющая «в настоящее время лишь историческое значение»36. Согласившись с бесполезностью «культовой музыки» для советской культуры, Драмсоюз категорически запрещает своим членам работать в этом жанре, решив «раз и навсегда покончить с поощрением творчества культовой музыки»37. Следствия решительного разрыва были успешными, поскольку «почти все авторы перешли к музыкальному хоровому творчеству клубноэстрадного жанра»38. Происходит окончательное расставание Драмсоюза с той церковью, где сакральным содержанием наполнено богослужебное пение. Следующим речевым актом Драмсоюз подтверждает свой статус «общественно-полезной художественной единицы», обязуясь вносить как таковая реальный вклад в советскую культуру. Драмсоюз постановляет все силы направить исключительно на развитие «советского репертуара» — «дать прочную базу для создания нового советского репертуара, как клуба, так и школы…». Для этого Хорсекция вступает «в связь с другими секциями Драмсоюза и, главным образом, с теми, которые могли бы снабжать её необходимым литературным материалом (тексты для песен, хоров, ансамблей, инсценировок)»39. Демонстративная акцентуация общественнополезной миссии Драмсоюза была закреплена изменением критерия распределения денежных средств. При этом алогичность определения объекта выплат гонорара для наблюдателя за пределами драмсоюзовской виртуальной реальности кажется противоречием здравому смыслу, погружением Драмсоюза в абсурдную реальность.
Теперь Драмсоюз собирает деньги с церквей за духовные произведения, но платит гонорар их авторам только в том случае, если у них есть революционные, при этом, исполняемые, произведения. Было решено при выплате гонорара «прекратить совершенно учет у членов Хорсек-ции культовой исполняемости и при переквалификации исходить лишь из удельного веса данного автора как композитора, и исполняемости его революционных народных и художественных произведений…как общественно-полезной художественной единицы»40. Какой бы ни казалось абсурдной, эта акция точно отражала изобретенную Драмсоюзом изоморфную революции реальность, была эффективна для продолжения сбора, перемещая сбор из юрисдикции правоотношений в систему идейно-политических императивов.
Свобода от условностей закона позволила Драмсоюзу ужесточить требования к церкви-предприятию, собирать, не вникая, кто и что поет, требовать выплаты задним числом, взыскивать через суд задолженности. В Драмсоюзе сконструировали собственную безопасную нишу служителя советской культуре, её смысл «секретными» депешами разъяснялся агентам: «Если собирая гонорар с культурно-просветительных учреждений и театров, мы заинтересованы в процветании искусства, то при сборе авторского гонорара с церквей наш интерес только получить деньги за всю трехлетнюю давность и при этом со всей суммы вознаграждения»41. В конструировании виртуального богослужения-концерта, использовании церкви как средства «процветания искусства», Драмсоюз, парадоксальным образом, не был ориентирован на нормы и ценности. Будучи субъектом секулярной акции, имея объектом сакральное, что по определению предполагает наличие категории божественно- го как критерия организации сбора, Драмсоюз в своей знаковой системе Бога не предусматривал. Для него церковь и богослужебное пение приобрели абстрактный характер, инструментальную эффективность получения денег. Но, блуждая в семиотическом пространстве антирелигиозной реальности, Драмсоюз столкнулся с целесообразностью иного порядка, — со священным миром безбожников, в котором церковь служила центральным объектом их антирелигиозного культа, своим существованием оправдывала их социальную активность.
Содержание и смысл культа безбожников определялись идеей формирования нового человека. В их догматике была установлена прямая зависимость степени успеха формирования нового человека от меры освобождения сознания от религии, борьба с которой становилась в этом случае первой и главной фазой целевой практики. Социальной нормой стало — «должны бороться с религией», а практикой — «надо уметь бороться с религией»42. Эти методологические постулаты «воинствующего материализма»43 были аккумулированы сообществом безбожников, явленным в своей крайней форме Союза воинствующих безбожников (СВБ) в июне 1929 года44, пообещавшим окончательно ликвидировать религию как «тормоз социалистического строительства и культурной революции»45.
Для безбожников драмсоюзовское легковесное конформистское отступничество от церкви было неприемлемо как порочащее священную войну с религией. В реальности безбожников, сконструированной в том же антирелигиозном революционном контексте, что и драмсоюзовская, церковь пребывала не как беззащитный плательщик-предприятие, а в своем исконном смысле и содержании, как Удерживающий, опора истины, против которой взбунтовались безбожники. Присутствие Бога в мире безбожников с очевидностью обнаруживается деконструкцией их семиотической реальности, главным смыслом которой было отрицание Бога. Именно этот основополагающий принцип безбожной семиотической конструкции — отрицание Бога — и является актом признания его существования, в противном случае рушится вся безбожная знаковая система — нет смысла отрицать несуществующее. Этот сверхвербальный опыт существования Бога обнаруживается в особенностях речевого поведения безбожников.
Смысловым стержнем моделирования атеистического мировосприятия стало богохульство, внедряемое СВБ в сознание масс беспрестанным повторением квазилогических речевых штампов антирелигиозного содержания. Показательным здесь является сдвиг аксиологической модальности в понятии «безбожник». Слово «безбожник», которым по настоянию главы СВБ Емельяна Ярославского заменяли слово «атеист», как более «понятное» народному сознанию, навязчиво прививали словосочетаниями: «я — безбожник», «юный безбожник», «деревенский безбожник», «безбожник у станка», «нужен ли Бог колхознику» и т. д., из знака девиантной, асоциальной нормы в русской православной ментальности получило статус ценностного ядра советской культуры. Весь план строительства социализма был адаптирован богоборчеству лапидарными лозунгами, типа: «Борьба с религией — это борьба за социализм», «Через безбожие — к коммунизму», объяснявшими, что лучшее будущее — это «Бога нет!», и прокладывается оно ликвидацией религии. Безапелляционный тон высказывания здесь служил доказательством правомерности, а экспрессия лозунгово-метафорического словесного выражения убеждений свидетельством бескомпромиссности намерений. В этом богоборческом семиотическом пространстве Драм-союз с его равнодушной к Богу речевой игрой маркировался как сомнительный субъект священной войны с религией и церковью.
Драмсоюз, осознав себя на поле антирелигиозной битвы, впал в состояние дереализации, полной потери чувства реальности. СВБ, независимо от конкретного получателя посланий, становится единственным адресатом речевой практики Драмсоюза, безусловно влияющим на её содержание и жанровую стилистику. Теперь языковая конструкция сбора, выполненная в прагматике безбожников, направляет Драм-союз в поиске успешного разрешения дилемм со сбором. Обмороченный иллюзией освоения языка богоборческого сообщества, имитируя включенность в их мир, Драмсоюз решается сделать предложение СВБ о сотрудничестве.
Драмсоюз, ошибочно предвосхищая ответную положительную реакцию СВБ, затеял речевую игру, в которой обосновал для безбожников сбор как форму антирелигиозной борьбы и представился её ратником. Этот смысловой кульбит в содержании сбора был совершен секретным посланием в Центросовет Союза Воинствующих Безбожников (ЦС СВБ) в ноябре 1929 г. в виде «проекта циркуляра», обнародованием которого Драмсоюз мечтал заручиться поддержкой безбожников. Правление Драмсоюза сформулировало сообразное богоборческой семиотической реальности, но противоречивое за её пределами понимание сбора как средства сокращения и даже прекращения богослужений-концертов.
В «проекте циркуляра» «Всем отделениям Союза Воинствующих безбожников, всем агентам Драмсоюза» утверждалось, что «собирание гонорара является фактически одной из мер антирелигиозной пропаганды», что «стремясь избавиться от уплаты гонорара, приходы сокращают расход на самую важную, самую благолепную часть церковной службы»46. Следствием чего, становится якобы, утрата интереса верующих к богослужению, и церкви сами собой за-крываются47.
Этим речевым актом Драмсоюз совершил окончательное отпадение от церкви. Но безбожники не поверили доверительному тону речевой игры Драмсоюза, распознав фальшь словесных сигналов, и ЦС СВБ в жанре официального общения решительно отказал ему, указав, что «не только по стилю не подходит, но и не содержит основных принципов антирелигиозной пропаганды и по специфичности выдвигаемого Вами вопроса может быть использован в нежелательном для нас направлении»48. Типическая формула казенного ответа скрыла признание на основе поствербального опыта в ходе конспиративного обсуждения49 драмсоюзовские рассуждения о методах антирелигиозной работы шизофреническим состоянием говорения «чужим» языком.
Как некогда прихожане сочли драмсоюзов-ские речевые акции в пользу сбора осквернением сакрального, так и СВБ в обосновании сбора антирелигиозной пользой увидел осквернение своего богоборческого культа, уничижение самого СВБ. Речевыми субъектами разоблачений были первые лица СВБ (А. Лукачевский, Ф. Оле-щук50 и др.).
Утверждение сбора видом антирелигиозной пропаганды было осмеяно безбожниками с безжалостным сарказмом в речевом жанре откровенного глумления, что запечатлено на полях документа: «Нашего вола бьют и нам хвост дают. Нехорошо!», «Вид антирелигиозной пропаганды, которой не должно быть в нашей практике»51. Безбожники сочли утверждение эффективности сбора в антирелигиозном деле, во-первых, провокацией: «И религия тем самым изживает себя!», «Клин клином вышибай?»52, а, во-вторых, компрометацией всей деятельности самого СВБ: «Добровольность «помогающих» авторов доходит до суда. Увы, так, да!», псевдо средством, которое скорее будет пробуждать сочувствие и интерес к церкви. Яркая эмоциональная окраска оценочных суждений безбожников была, по сути, не столько ответом Драмсоюзу, сколько продолжением состоявшегося в среде безбожников, как раз в это время, ожесточенного спора по вопросам методов и средств антирелигиозной пропаганды, в который логикой своей речевой практики вовлекся Драмсоюз. Предложение Драмсою-за безбожники расценили «курьёзом» — «Лучше не придумает и юморист. Я в восторге!»53, — несуразным до такой степени, что почли было «необходимым отправить в атеистический музей, написав «препроводительную бумажку в 1 экз. для «Крокодила»54, но остались верны секретности. Вместе с тем, сбор авторского гонорара с церквей, как таковой имел в языковых играх СВБ возможное будущее. За спиной у Драмсою-за СВБ планировал «особым постановлением запретить оплату гонорара живым авторам за исполнение духовных произведений… в пользу ЦС СВБ», убеждая, что это «даст возможность ЦС ещё больше развить работу на антирелигиозном фронте. Лукачевский, Олещук»55.
Публичное развенчание Драмсоюза состоялось оглашением персонального дела о «нечистоплотных приёмах» сборщиков, о которых ЦС СВБ уведомил инициативный знаток речевого поведения в условиях антирелигиозной реальности, тот самый автор сбора И. В. Стрельников, начавший сообразно своей семантической интуиции заведомо снабжать СВБ фактами о подтасовке «драмсоюзовскими заправилами» данных о денежных поступлениях со сбора с помощью «мертвых душ»56.
Драмсоюз закончил свой век объектом всеобщего презрения. Сконструированные им виртуальные «церковь-предприятие» и «богослужение-зрелище», с выхолощенным сакральным содержанием, изобретенный в ходе речевой игры метод ликвидации церквей руками самих прихожан, — всё это и для верующих, и для безбожников имело смысл неактуального высказывания экспоната атеистического музея. Семиотическую организацию сбора современники событий сравнивали с манипуляциями «ц е рка-чей» — как в жанре насмешки называли церковную секцию, проговариваясь при этом о понимании содержания речевого поведения Драмсоюза как абсурдного сопряжения цирка и церкви57.
В феврале 1930 г., когда жесткие методы обе-збоживания и беспощадные средства этого культурного плана стали предметом публичных высказываний зарубежных христианских иерархов и возникла угроза осложнения международных отношений, сбор был упразднен, как очевидная нелепица, продукт революционной семиотической реальности, в котором легко распознавалась нормативность бесправия церкви.
Прагматика речевой деятельности Драмсо-юза была организована знаковой системой революционных преобразований, овладение языком которой позволяло ему успешно решать некоторые проблемы. Драмсоюзовский выбор в качестве адресата речевой деятельности СВБ был добровольным, но уже отправленные знаки союзничества в антирелигиозной пропаганде выглядят умопомрачением, и считываются сегодня как акция сопричастности разрушению русской культуры. Созданный Драмсоюзом в отечественной истории прецедент — своего рода месседж о деструктивности секуляризированной речевой практики в пространстве духовной жизни человека.
Список литературы История сбора авторского гонорара с церквей: грехопадение Драмсоюза
- Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1922 - 1932 гг.
- Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства. М., НКЮ, 1929 г.
- Козаржевский А. Ч. Церковноприходская жизнь Москвы 1920 - 1930-х годов. Воспоминания прихожанина. //Журнал Московской Патриархии. №11 - 12. 1992 г. С.22.
- Памятная записка о нуждах православной патриаршей церкви в СССР от 10 февраля 1930 г. / Русские патриархи XX в. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М.: Изд-во РАГС. 1999.
- Протодиакон Владимир Смирнов. Из воспоминаний. //Журнал Московской Патриархии. №4. 1992.
- РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Д. 398.
- Розова Л. К. Великий архидиакон. М.: «Три века», 1997.
- Церкачи.//Чудак. 1929 г., №46, ноябрь. С. 10.
- Цветкова Г. А. «Фарисеи» и «Мытари» на службе у Советского государства: проблема осуществления власти как личного выбора человека.//XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы. Т.2 - М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. С.19 - 26.
- Юргенсон Б. П. Авторское право на музыкальные произведения // Интернет ресурс: http:// www.jurgenson.org / docs / Avtor_prav_dem.pdf