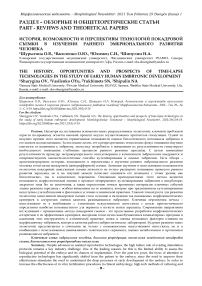История, возможности и перспективы технологий покадровой съемки в изучении раннего эмбрионального развития человека
Автор: Шурыгина Оксана Викторовна, Василенко Ольга Юрьевна, Юхимец Сергей Николаевич, Шипулин Никита Александрович
Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter
Рубрика: Обзорные и общетеоретические статьи
Статья в выпуске: 1 т.29, 2021 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на достижения вспомогательных репродуктивных технологий, ключевой проблемой отрасли по-прежнему остается высокий процент неудач осуществляемых протоколов стимуляции. Одной из ведущих причин этого являются ограниченные возможности оценки биологического потенциала эмбриона и его шансов на имплантацию. За последние десять лет в репродуктивных технологиях фокус внимания ощутимо сместился от пациентки к эмбриону, поскольку потребность в повышении их результативности стимулирует необходимость понимания глубинных процессов раннего развития зародыша. С целью повышения результативности процедур экстракорпорального оплодотворения в клинической эмбриологии внедряются и совершенствуются высокотехнологичные способы культивирования и оценки эмбрионов. Цель обзора -продемонстрировать историю, возможности и перспективы в изучении раннего эмбрионального развития человека технологии покадровой (цейтрафферной) съемки. Активное изучение и использование возможностей технологии покадровой замедленной съемки позволило не только расширить понимание процессов раннего развития зародыша, но и на текущий момент позволяет оценивать его потенциал с точки зрения, как биологических, так и клинических перспектив. Основными преимуществами этого метода являются возможность морфологической оценки в процессе непрерывного культивирования эмбрионов в инкубаторах закрытого типа без их извлечения, а также определение точных временных интервалов ключевых событий этапов развития зародыша с особым вниманием на те моменты, которые при традиционном культивировании недоступны для наблюдения и фиксации в условиях клинической практики. Главной точкой роста для развития технологии замедленной покадровой съемки стало создание и валидация так называемых морфокинетических критериев и алгоритмов оценки качества развивающихся эмбрионов. Ключевая перспектива метода -использование ее в комбинации с элементами искусственного интеллекта с целью прогностического определения наиболее потенциального для переноса в полость матки зародыша. Современные направления исследований с применением метода покадровой съемки - это продолжение разработки морфокинетических алгоритмов и их эффективных критериев, внедрение технологии самообучающихся компьютерных программ и адаптация этих инструментов в клинической практике, поиск и оценка возможных факторов влияния на морфокинетику эмбрионов, контроль качества работы эмбриологических лабораторий. Будущее развитие таких технологий представляется в сочетании не только с возможностями искусственного интеллекта, но и в комбинации с использованием неинвазивного генетического скрининга, оценки метаболомики и протеомики развивающихся эмбрионов.
Эмбриология человека, биология репродукции, технология замедленной покадровой съемки, вспомогательные репродуктивные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/143177415
IDR: 143177415 | DOI: 10.20340/mv-mn.2021.29(1).9-19
Текст научной статьи История, возможности и перспективы технологий покадровой съемки в изучении раннего эмбрионального развития человека
Шурыгина О.В., Василенко О.Ю., Юхимец С.Н., Шипулин Н.А. История, возможности и перспективы технологий покадровой съемки в изучении раннего эмбрионального развития человека// Mорфологические ведомости.- 2021.- Том 29.- № 1.- С. 9-19. (1):9-19
Shurygina OV, Vasilenko OYu, Yukhimets SN, Shipulin NA. The history, opportunities and prospects of time-lapse technologies in the study of early human embryonic development. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2021;29(1):9-19. (1):9-19
Изучение эмбрионального развития человека является приоритетной задачей фундаментальной и практической медицины. Начиная со времен Карла Бэра, интерес к доимплантационному развитию эмбрионов остается крайне высоким. Особого подъема клиническая эмбриология достигла в 70 - 90-е годы прошлого века. Ее несомненным успехом стало рождение первого ребенка «из пробирки» Луизы Браун в 1978 году. До этого времени в общей сложности было сделано около 600 переносов, прежде чем 8-ми клеточный эмбрион развился в плодное яйцо в полости матки. На сегодня по данным мировых регистров вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) количество детей, рожденных с помощью этих технологий достигает 10 миллионов [1]. Современная эмбриология человека имеет огромный потенциал развития и во многом определяет успешный исход программ ВРТ.
Эмбриология, как наука, сформировалась задолго до появления экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО). Еще в древнегреческих трактатах школы Гиппократа «О семени» и «История животных» впервые были зафиксированы идеи наблюдательной и сравнительной эмбриологии [2]. Широкие возможности исследования гамет возникли благодаря созданию микроскопа. В 1677 году под авторством Антони ВанЛевенгука и Иогана Хэма вышла публикация с описанием и зарисовками сперматозоидов. Через 150 лет Карл Бэр описал ооциты млекопитающих, а 1828 году в своем труде «История развития животных» он сформулировал закон зародышевого сходства, что по праву считается отправной точкой развития эмбриологии как науки [3].
В конце 20-го и начале 21 века произошел значительный прорыв в накоплении медицинской информации. Термин «доказательная медицина» существует уже более ста лет, однако именно за последние два десятилетия объем и доступ к научным медицинским данным возросли многократно [4]. Еще в 2011 году американский ученый Densen опубликовал статью, в которой описал время удвоения объема медицинских знаний: в 1950 году этот интервал составлял 50 лет, в 1980 году 7 лет, в 2010 году 3,5 года. В 2020 году данный показатель прогнозировался на уровне всего 73 дня [5]. Ситуация, связанная с пандемией SARs-CoV-19, вероятнее всего, еще больше ускорит взаимообмен информацией. Поэтому любые инновации в современной медицине с одной стороны требуют серьезной проверки, с другой - мгновенно подхватываются обществом в силу потребности в немедленном внедрении.
Несмотря на достижения ВРТ, ключевой проблемой по-прежнему остается высокий процент неудач проводимых протоколов стимуляции. Одной из ведущих причин этого являются ограниченные возможности оценки биологического потенциала эмбриона и его шансов на имплантацию. За последние десять лет в ВРТ фокус внимания ощутимо сместился от пациентки к эмбриону, поскольку потребность в повышении результативности технологии ЭКО стимулирует необходимость понимания глубинных процессов раннего развития зародыша. Новая эпоха в клинической эмбриологии настала спустя почти сто семьдесят лет с момента публикаций Карла Бэра с приходом технологии замедленной покадровой съемки (time-lapse technology, далее - TLT). Этот метод был известен еще с начала 20 века и в 1950-х годах стал использоваться в биологии для исследования живых объектов. Впервые запись раннего развития человеческих эмбрионов с использованием TLT была описана в 1997 году Payne и соавторами [6]. Ооцит, оплодотворенный методом интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (далее -ИКСИ), помещали в чашку Петри в инкубационную камеру Perspex со встроенным инвертированным микроскопом. Запись начиналась в течение 30 минут после инъекции сперматозоида, осуществлялась на видеокассету в условиях пониженной освещенности (лампа микроскопа включалась только на 5 секунд каждую минуту) и повторялось таким образом в течение 17-20 часового периода наблюдения [6]. С момента первого эксперимента был предпринят ряд серьезных исследований по безопасности культивирования эмбрионов в условиях инкубаторов, совмещенных с системой видеонаблюдения. Nakahara в 2010 году провел проспективное рандомизированное исследование по оценке влияния света от встроенного оптического микроскопа и безопасности системы покадровой записи в результате которого был сделан вывод об отсутствии негативного влияния такой технологии на эмбрионы при сравнении с традиционным культивированием по таким показателям как частота оплодотворения, частота дробления и процент эмбрионов хорошего качества [7].
С течением времени и накоплением данных по TLT стало очевидным, что традиционная оценка морфологии эмбриона, предложенная еще в 1999 году Gardner и в дальнейшем многократно модифицированная, не позволяет в полной мере прогнозировать потенциал его развития. В ряде публикаций были предложены временные интервалы этапов клеточного деления, которые по мнению авторов были связаны с потенциальной жизнеспособностью эмбриона. Lemmen отмечал, что раннее исчезновение пронуклеусов и раннее начало первого клеточного деления коррелировали с более высоким количеством бластомеров на 2-й день после извлечения яйцеклетки, в то время как синхронность появления ядер после первого клеточного деления достоверно ассоциировалась с более высокой частотой развивающейся беременности [8]. В 2011 году было сформулировано современное понятие морфокинетики эмбриона как сочетание морфологии, динамики и временных параметров его развития. Утверждалось, что значительные отклонения показателей морфокинетики являются предикторами аномального развития эмбриона [9].
С появлением коммерчески доступных аппаратов TLT начался новый виток в развитии клинической эмбриологии. В 2012 году проведя ретроспективное мультицентровое когортное исследование с применением первой в своем роде коммерческой системы TLT Embryo Scope (Unisense Fertilitech) Meseguer с соавторами наблюдали увеличение частоты наступления клинической беременности примерно на 20% по сравнению со стандартной инкубацией (OR=1,201; p=0,0043). Столь впечатляющие результаты исследователи авторы объясняли значительно более стабильными условиями культивирования при непрерывном наблюдении и использованием морфокинетических переменных для выбора самого потенциального эмбриона [10].
Перед исследователями встал вопрос о прогностических алгоритмах, использующих показатели TLT. Ранее были созданы подобные модели для традиционного метода культивирования и его оценки. Holte с соавторами в 2007 году в ходе анализа показателей 2266 эмбрионов, полученных методом ЭКО/ИКСИ, пришли к выводу, что число бластомеров, вариация размера бластомеров, симметрия деления и мононуклеарность в бластомерах являются достоверными прогностическими критериями для имплантации. Авторами был разработан алгоритм и критерии 10-ти балльной морфологической оценки эмбриона [11]. Однако в силу разницы условий культивирования в разных лабораториях этот и подобные ему алгоритмы не нашли широкого применения в клинической практике.
В случае с замедленной покадровой съемкой статистический анализ в исследовательских работах заметно усложнился в силу большего количества входящих данных и фокусных конечных точек. Первый алгоритм был предложен Wong и соавторами, этими исследователями была предпринята попытка связать временные интервалы развития эмбрионов с прогнозом развития бластоцисты и профилями экспрессии генов [12]. Позднее в качестве ключевого ориентира был выбран показатель частоты имплантации (далее - ЧИ) эмбриона и сформулирована система критериев оценки, которую назвали KID-score (known implantation data score – шкала данных успешной имплантации). Таким образом, морфокинетические параметры оценивались с точки зрения ожидаемого положительного «+KID» или отрицательного «-KID» результата имплантации и эмбрионы классифицировались по шкале от А до E в зависимости от определенного потенциала [9]. В 2014 году был подробно описан клеточный цикл с момента оплодотворения с использованием TLT съемки с применением шкалы KID-score. В 2-х летнем когортном ретроспективном исследовании авторы сравнили интервалы ключевых событий, таких как выделение второго полярного тельца, появление первого и второго пронуклеусов, сближение и исчезновение ядер у имплантировавшихся и неимплантировавшихся эмбрионов. Были проанализированы 1448 перенесенных эмбрионов, полученных путем оплодотворения методом ИКСИ донорских ооцитов с известным показателем ЧИ. Статистически достоверным выше показатель ЧИ эмбрионов был тогда, когда временные интервалы выделения второго полярного тельца соответствовали 3,3–10,6 часам, исчезновение пронуклеусов 22,2–25,9 часам, период от появления до исчезновения пронуклеусов составлял 5,7–13,8 часов. Другие параметры не продемонстрировали статистическую значимость [13]. Позднее группой авторов под руководством Basile и Meseguer алгоритм KID-score был верифицирован на большей выборке эмбрионов и была подтверждена его прогностическая ценность. Серьезным преимуществом данного исследования был его мультицентровой характер, в работе принимали участие 4 центра системы клиник «IVI» (Испания). В исследовании были выявлены достоверные различия по ЧИ между разными категориями эмбрионов: «А» - 32%, «B» - 28%, «С» - 26%, «D» - 20%, «Е» -17% (p<0,001). Были определены три переменные наиболее тесно связанные с ЧИ: время появления третьего бластомера у эмбриона t3 (оптимум 34-40 часов), продолжительность второго клеточного цикла cc2 (оптимум 9-12 часов) и время деления на 5 клеток t5 (оптимум 45-55 часов) [14]. Следует отметить, что при разработке алгоритма учитывались данные переноса только одного эмбриона, поскольку именно в этом случае было возможно без дополнительного применения методов генетического тестирования сопоставить показатели эмбриона и данные его имплантации. На сегодня созданы несколько морфокинетических алгоритмов. Принципиально все они базируются на ключевых временных интервалах развития эмбриона, описанных Ciray в 2014 году и позднее обобщенных в «Рекомендациях по эффективной практике использования TLT» [15-16]. В сокращенной форме приводим их в таблице 1.
Технология замедленной покадровой сьемки в сравнении с традиционной оценкой морфологии, во-первых, точно фиксирует ключевые временные интервалы развития эмбриона, что невозможно осуществить без круглосуточного наблюдения. Во-вторых, она фиксирует такие редко уловимые явления, как позднее появление пронуклеусов, асинхронное исчезновение пронуклеусов, изменение локализации фрагментации, рассеивание фрагментов, нарушение дробления, обратное слияние бластомеров, многоядерность и другие. По данным исследования Meseguer 19,4% эмбрионов демонстрировали те или иные отклонения развития [9]. По мнению ряда авторов, такие явления, как прямое деление от зиготы на три бластомера, не равный размер бластомеров на двуклеточной стадии с разницей, более чем в 25% и многоядерность на стадии четырех клеток достоверно снижают ЧИ и являются маркерами исключения эмбриона [9, 14, 17]. Включением этих трех критериев был модифицирован морфокинетический алгоритм шкалы KID-score.
Другой алгоритм был представлен в 2013 году Conaghan и соавторами, которые в многоцентровом проспективном когортном исследовании разработали и верифицировали алгоритм прогнозирования формирования бластоцисты по показателям эмбриона третьего дня развития. Исследователи использовали программное обеспечение Eeva (Мерк, Германия), базируясь на временных интервалах между 1-м и 2-м цитокинезом и цитокинезом 2 и 3. Результаты показали, что определение морфокинетики к третьему дню развития эмбриона с использованием системы Eeva достоверно повышает вероятность отбора потенциальных к развитию до стадии бластоцисты эмбрионов в случае, если указанные интервалы находились в определенных пределах: время между цитокинезом 1 и 2 составляло 9,33–11,45 часов, время между цитокинезом 2 и 3 0–1,73 часа, соответственно. При этом среди участвовавших в исследовании эмбриологов была отмечена высокая вариабельность результатов отбора в контрольной группе, в которой оценку проводили только по морфологии эмбриона [18].
Таблица 1Критерии морфокинетических алгоритмов TLT-технологии [15-16]
|
Наименование интервала |
Описание |
|
tPB2 |
Время выделения второго полярного тельца |
|
tPNa |
Появление пронуклеусов; tPN1a, tPN2a, tPN3a, … |
|
tPNf |
Время исчезновение пронуклеусов; tPN1f; tPN2f... |
|
tZ |
Время оценки PN (последний кадр до исчезновения пронуклеусов, перед tPNf) |
|
tn |
Время до образования каждого следующего бластомера n количества бластомеров (т.е. t2, t3, t4 ) |
|
tTM |
Прямое деление клетки на три бластомера (трихотомный митоз) на разных стадиях |
|
tSC |
Первое подтверждение компактизации |
|
tM |
Завершение компактизации |
|
tSB |
Начало бластуляции (появление видимого бластоцеля) |
|
tB |
Формирование полной бластоцисты |
|
tE or tEB |
Начало экспансии бластоцисты (называемая также TEyB, «y»-морфология внутренней клеточной массы, «z» – морфология клеток трофоэктодермы) |
|
tHN |
Начало хетчинга (вылупления) бластоцисты (называемая также tHNyz) |
|
tHD or tHB |
Полностью вылупившаяся бластоциста (называемая также tHDyz) |
|
Psyn |
Сингамия, время от исчезновения пронуклеусов до первого цитокинеза |
|
ECC1 |
Продолжительность первого клеточного цикла (t2-tPB2) |
|
cc2 |
Клеточный цикл бластомеров: продолжительность второго клеточного цикла (а=t3-t2, в=t4-t2) |
|
cc3 |
Клеточный цикл бластомеров: продолжительность третьего клеточного цикла (a=t5-t4, b=t6-t4, c=t7-t4, d=t8-t4) |
|
ECC2 |
Второй клеточный цикл эмбриона (t4-t2) |
|
ECC3 |
Третий клеточный цикл эмбриона (t8-t4) |
|
Blastocyst contraction |
Уменьшение объема бластоцеля |
|
s2 |
Время между делением на три клетки и последующим делением на четыре клетки |
|
s3 |
Время между делением до пяти клеток и последующим делением до восьми клеток |
|
tRE |
Время начала повторной экспансии (первый кадр, в котором бластоцель реформируется или увеличивается в размерах) |
|
tCRE |
Время завершения повторной экспансии (первый кадр, когда бластоциста занимает все перивителлиновое пространство) |
В настоящее время во многих эмбриологических лабораториях начинается активное внедрение технологии замедленной покадровой съемки. Это актуализирует научноисследовательскую деятельность развивая ее в нескольких направлениях. Безусловным приоритетным является разработка алгоритмов оценки, которые в идеале смогли бы прогнозировать оптимальную селекцию эмбриона с точки зрения повышения частоты наступления беременности и родов здоровым плодом. Однако сегодня важно понимать, что разработанные алгоритмы требуют серьезной адаптации в каждой конкретной клинике.
Подобная необходимость обусловлена существующей разницей в условиях культивирования эмбрионов, таких как различия культуральной среды, парциального давления инкубационного газа, опыта специалистов.
Не менее актуальным становится соотнесение морфокинетических параметров с генетикой эмбриона. Ряд медицинских, законодательных, этических и социальноэкономических факторов по-прежнему не позволяют широко применять в клинической практике методы преимплантационного генетического тестирования. В связи с этим особый фокус внимания ученых сконцентрирован на попытках не инвазивного определения плоидности. В 2013 году вышла работа Campbell и соавторов по моделированию риска анеуплоидии у эмбрионов человека с использованием морфокинетики. Используя программное обеспечение Embryo-Viewer с предустановленным 20-минутным интервалом визуализации (19 изображений за 6 часов) и методы сравнительной геномной гибридизации исследователям удалось создать прогностический алгоритм на основании двух ключевых показателей: времени начала бластуляции (tSB) и времени формирования полной бластоцисты (tB). С использованием метода рекурсивного (быстрого и частого) разбиения были определены следующие интервалы, связанные с риском анеуплоидии. Низкий риск -tB<122,9 часов после ИКСИ и время начала бластуляции tSB<96,2 часов после ИКСИ; средний риск - tB<122,9 часов после ИКСИ и tSB≥96,2 часов после ИКСИ; высокий риск -tB≥122,9 часов после ИКСИ [19]. В том же году под руководством Campbell было опубликовано развитие этой идеи, воплотившееся в анализе корреляции морфокинетических данных и частоты наступления беременности и рождения ребенка. Базируясь на модифицированном алгоритме KID-score (в который были добавлены известные показатели клинической беременности и родов) авторы пришли к любопытным результатам: перенос эмбрионов с показателями t2>30 часов и cc2<2 часов реже приводил к наступлению положительных клинических исходов. И несмотря на то, что выборка была небольшой (310 эмбрионов 3-го дня развития) они обосновали четкую прогностическую значимость предложенного алгоритма [20].
В унисон с работами Campbell в 2018 году вышла работа Desai в которой были подтверждены предиктивные возможности морфокинетики связанные с показателями развития бластоцисты и дисморфизмами в отношении определения эуплоидности эмбрионов. В исследовании из 767 биопсированных бластоцист 41,6% были диагностированы как эуплоидные. Хромосомный анализ проводили с использованием методов сравнительной геномной гибридизации и секвенирования следующего поколения. По мнению авторов, отдельные дисморфизмы, такие как многоядерность, обратное слияние бластомеров, нерегулярное хаотическое деление или прямое деление на три бластомера не были напрямую связаны с анеуплоидией. Последние два, однако демонстрировали более низкий потенциал эмбриона к развитию. Наличие двух и более дисморфизмов было достоверно связано с низким уровнем эуплоидии (27,6%). При этом хромосомный статус коррелировал со временем начала бластуляции (tSB), временем начала экспансии бластоцисты (tEB) и интервалом между этими двумя показателями (tEB-tSB). Более низкая частота эуплоидии в 36,6% наблюдалась при tSB≥96,2 часа, по сравнению с 48,2% при tSB<96,2 часа. Снижение частоты эуплоидии до 30% наблюдалось у бластоцист с отсроченной экспансией при показателе tEB >116 часов. Доля эуплоидных бластоцист была выше, когда интервал tEB-tSB был равен 13 часам или был меньшим [21].
Наиболее полно данные по корреляции морфокинетики и хромосомного статуса описаны в систематическом обзоре Reignier и соавторов [22]. В работу были взяты 11 ретроспективных и 2 проспективных исследования, которые были охарактеризованы как достаточно разнородные: биопсия и генетическое тестирование проводилось на разных этапах развития зародыша, во многих публикациях отсутствовали данные по парциальному давлению инкубационного газа, были приведены не все морфокинетические интервалы, использовались разные методы статистической обработки данных. Таким образом, вследствие значительной гетерогенности приведенных исследований авторами не было выявлено каких-то определенных уникальных параметров, по которым возможно было бы - 14 -
Морфологические ведомости – Morphological Newsletter: 2021 Том (Volume) 29 Выпуск (Issue) 1 определить генетический потенциал эмбрионов с достаточной степенью чувствительности и специфичности. Однако при этом наметились показатели, которые на этапе доимплантационного развития значимо коррелировали с эуплоидностью, поэтому требуются дальнейшие рандомизированные исследования, которые помогут подтвердить или опровергнуть предложенные корреляции. В настоящее время среди исследователей пока нет единого мнения о том, что является первоочередным в формирования анеуплоидии. Возможно, что видоизмененные процессы деления провоцируют неполноценное расхождение хромосом или генетическая детерминация анеуплоидии в конкретной паре «ооцит-сперматозоид» приводит к нарушению идеальной картины клеточного цикла.
Интересно также отметить тот факт, что специфических морфокинетических характеристик, по которым можно было бы определить пол эмбриона, пока не установлено. Существуют публикации, в которых отмечено, что временные параметры развития эмбриона мужского пола вплоть до стадии восьми клеток короче, чем у эмбриона женского пола. По последним данным время до образования 3-х, 4-х, 5-ти бластомеров эмбрионов мужского пола были статистически значимо короче, чем у эмбрионов женского пола (p<0,05), также, как и продолжительность второго клеточного цикла cc2 (p=0,002). Авторы сообщили, что, при использовании многомерной логистической регрессии показатель времени до образования трех бластомеров менее 14 часов был наиболее релевантным параметром, связанным с полом (OR=2,452, 95% CI=1,071–5,612, p=0,03) [23].
В современной медицине, в том числе и в области ВРТ, практикуется персонализированный подход в терапии бесплодия пары. С этой точки зрения исследователями предпринимаются попытки проведения корреляции TLT-параметров, генетического потенциала эмбриона и клинических исходов в селективных группах пациенток. Например, авторским коллективом под руководством Rienzi было высказано сомнение в возможности прогнозирования анеуплоидии эмбрионов по 16 ключевым морфокинетическим параметрам у пациенток с неблагоприятным прогнозом (факторы неблагоприятного прогноза по отдельности или в сочетании: старший репродуктивный возраст более 36 лет, многократные неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения, спонтанные аборты в анамнезе) [24]. Группой российских исследователей у пациенток с благоприятным прогнозом и хорошим овариальным резервом отмечена любопытная особенность: как проведение элективного переноса эмбриона на пятые сутки культивирования, так и выбор эмбриона на основании показателей замедленной покадровой съемки вне зависимости от того, был ли перенос элективным или не элективным, оказались благоприятными факторами и повышали шанс на роды (р=0,01) [25]. Однако до сих пор вопрос персонализации оценки морфокинетических параметров в селективных группах пациенток остается не до конца изученным.
В 2017 году на фоне активного развития интереса к TLT Pribenszky и соавторы опубликовали мета-анализ, обобщивший данные пяти рандомизированных контролируемых исследований сравнения TLT и традиционного культивирования/выбора эмбриона. Авторы сделали заключение, что применение методики замедленной покадровой съемки и непрерывной инкубации достоверно повышает частоту развивающейся беременности (OR=1,54, 95%CI=1,21–1,97), снижает показатель раннего прерывания беременности (OR=0,66, 95%CI=0,47–0,94), и повышает частоту родов (OR=1,67, 95%CI=1,13–2,46) [26].
В 2019 году был опубликован мета-анализ Cochrane, обобщивший данные девяти рандомизированных контролируемых исследований по эффективности применения сочетания TLT и программного обеспечения для отбора эмбрионов в сравнении с традиционной инкубацией и морфологической оценкой и эффективности сочетания TLT и программного обеспечения для отбора эмбрионов по сравнению с TLT без программного обеспечения для отбора эмбрионов. По ключевым клиническим показателям разница между оцениваемыми методиками была не достоверна. Основными ограничениями метаанализа были указаны значительная гетерогенность вмешательств и отсутствие ослепления - 15 -
Морфологические ведомости – Morphological Newsletter: 2021 Том (Volume) 29 Выпуск (Issue) 1 (маскирования вмешательства) у участников и исследователей, из-за чего, вероятнее всего, не удалось достигнуть значимых отличий по результатам. Однако было отмечено, что TLT и программное обеспечение выбора эмбриона может снизить частоту выкидышей в сравнении с применением традиционной оценки по морфологии (OR=0,63, 95%CI=0,45-0,89, N=1617) [27].
Исследование морфокинетики развивается также в направлении выявления и оценки факторов, потенциально влияющих на эмбрион, таких как показатели овариального резерва, тип протокола стимуляции, сопутствующие заболевания. В работе Muñoz и соавторами в 2013 году была выявлена интересная закономерность в связи с применяемым типом протокола стимуляции: в циклах с антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона и триггером агонистом гонадотропин-рилизинг гормона (n=2101) эмбрионы на ранних этапах делились быстрее, чем те, которые были получены в протоколах с агонистами гонадотропин-рилизинг гормона и триггером хорионическим гонадотропином человека (n=716). Эти различия были статистически значимы только на начальных стадиях развития зародыша t2 - t5 [28]. В отношении сопутствующих заболеваний исследователи отмечают, что, например, эндометриоз преимущественно влияет на длительность ранних морфокинетических событий, таких как tPB2, tPNa, ECC1 и S2 [29]. Эмбрионы у пациенток с поликистозом яичников на ранних этапах t3 и t4 демонстрируют замедленное деление, однако tSC и tM статистически значимо короче, чем у пациенток без этого сопутствующего заболевания [30]. В отношении маркеров овариального резерва, таких как уровень антимюллерова гормона и как возраст, не было получено значимых морфокинетических отличий, однако это направление продолжает изучаться [31-32]. Интересная работа была опубликована авторским коллективом под руководством Kahraman в 2017 году, в своем исследовании они оценивали влияние синхронности роста пула фолликулов на морфокинетические характеристики развивающихся эмбрионов. На момент пункции ооцитов присутствие фолликулов разных размеров в сопоставимых количествах от крупных (>20 мм) до промежуточных (17-20 мм) и мелких (<17 мм) считали гомогенным развитием, преобладание крупных (>20 мм) и мелких (<17 мм) фолликулов считали гетерогенным развитием. Было установлено, что показатели оплодотворения, образования бластоцист хорошего и очень хорошего качества были достоверно выше у эмбрионов, полученных из гомогенной группы фолликулов крупного диаметра. Эмбрионы, полученные из мелких фолликулов гетерогенной группы, имели достоверно большую частоту прямых делений, развивались быстрее по всем интервалам деления, чем эмбрионы, происходящие из крупных фолликулов. При сравнении медианных значений время достижения полной бластоцисты для мелкого фолликула было на 1,4 часа быстрее, чем для крупного фолликула, при этом эмбрионы, происходящие из мелких фолликулов, имели более высокую частоту остановки развития. Многофакторный анализ показал, что гомогенность фолликулярного пула (то есть наличие фолликулов разного диаметра в сопоставимых количествах) и размер фолликулов оказывают в дальнейшем значительное влияние на развитие и качество бластоцисты [33].
В «Рекомендациях по эффективной практике использования TLT», опубликованных в 2020 году, аккумулированы изученные варианты морфокинетических параметров, имеющих биологическое и(или) клиническое значение [16]. В 2021 году вышла публикация Reignier и соавторов [34], освещающая взаимосвязь TLT и таких инновационных клинических показателей, как общего кумулятивного показателя живорождения - доли пар, достигших живорождения на протяжении всех проведенных попыток ВРТ, включая все попытки ИКСИ, и времени до живорождения - интервала в днях от первой контролируемой стимуляции яичников до даты живорождения. По данным авторов общий кумулятивный показатель живорождения при применении TLT был статистически достоверно выше на 10,5%, чем при традиционной инкубации (p=0,02). Медианные значения времени до живорождения были достоверно короче при применении TLT (464 дня при TLT против 596 дней при традиционной инкубации, p=0,01).
Одним из последних и наиболее перспективных направлений в эмбриологии является комбинация TLT и возможностей так называемого искусственного интеллекта. С учетом того, что при использовании технологии покадровой съемки происходит накопление большого количества графической информации, она требует для адекватной обработки мощного программного обеспечения для анализа целого спектра динамичных переменных и их комбинаций. Первые работы по применению технологий такого анализа с элементами программного самообучения были опубликованы в 2019 году. Около 50000 изображений, полученных с помощью TLT (Vitrolife, Швеция), и клинических данных по 2182 эмбрионам были положены в основу создания дерева решений, интегрирующего показатели качества эмбриона, возраста пациентки и способного прогнозировать шансы на наступление беременности [35]. В ближайшее время ожидается появление коммерчески доступных «обученных» систем искусственного интеллекта, позволяющих оценивать и прогнозировать шансы на имплантацию и роды каждого эмбриона с учетом имеющихся переменных параметров.
За прошедшие 20 лет технология покадровой съемки в эмбриологии шагнула далеко вперед, поддерживая тем самым вектор развития ВРТ в целом: повышение эффективности ЭКО путем не инвазивных методов отбора наиболее потенциальных к имплантации эмбрионов, снижения влияния факторов внешней среды на развитие эмбрионов вне инкубатора. Современные направления исследований с применением метода TLT – это продолжение разработки морфокинетических алгоритмов и их эффективных критериев, внедрение технологий искусственного интеллекта, адаптация этих инструментов в клинической практике, поиск и оценка возможных факторов влияния на морфокинетику эмбрионов, контроль качества работы эмбриологических лабораторий. Будущее развитие этой технологии представляется в сочетании не только с возможностями искусственного интеллекта, но и комбинации с перспективой использования не инвазивного генетического скрининга, оценки метаболомики и протеомики развивающихся эмбрионов.
Список литературы История, возможности и перспективы технологий покадровой съемки в изучении раннего эмбрионального развития человека
- Yovich JL. Founding pioneers of IVF update: Innovative researchers generating livebirths by 1982. Reproductive Biology. 2020;20(1):111-113. https://doi.org/10.1016/j.repbio.2019.12.008
- Nidhjem Dzhozef. Istorija jembriologii. M.: Gos. izd-vo inostr. lit., 1947. 342s.
- Rajkov B.E. Karl Ber, ego zhizn' i trudy. M., L.: Izd-vo AN SSSR, 1961. 524s.
- Alper BS, Hand JA, Elliott SG et al. How much effort is needed to keep up with the literature relevant for primary care? Journal of the Medical Library association. 2004;92(4):429.
- Densen P. Challenges and opportunities facing medical education. Transactions of the American Clinical and Climatological Association. 2011;122:48.
- Payne D, Flaherty SP, Barry MF & Matthews CD. Preliminary observations on polar body extrusion and pronuclear formation in human oocytes using time-lapse video cinematography. Human reproduction. 1997;12(3):532-541. https://doi.org/10.1093/humrep/12.3.532.
- Nakahara T, Iwase A, Goto M et al. Evaluation of the safety of time-lapse observations for human embryos. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2014;27(2-3):93-96. https://doi.org/10.1007/s10815-010-9385-8.
- Lemmen JG, Agerholm I, Ziebe S. Kinetic markers of human embryo quality using time-lapse recordings of IVF/ICSI-fertilized oocytes. Reproductive biomedicine online. 2008;17(3):385-391. https://doi.org/10.1016/s1472-6483(10)60222-2.
- Meseguer M, Herrero J, Tejera A et al. The use of morphokinetics as a predictor of embryo implantation. Human reproduction. 2011;26(10):2658-2671. https://doi.org/10.1093/humrep/der256.
- Meseguer M, Rubio I, Cruz M et al. Embryo incubation and selection in a time-lapse monitoring system improves pregnancy outcome compared with a standard incubator: a retrospective cohort study. Fertility and sterility. 2012;98(6):1481-1489. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.08.016.
- Holte J, Berglund L, Milton K et al. Construction of an evidence-based integrated morphology cleavage embryo score for implantation potential of embryos scored and transferred on day 2 after oocyte retrieval. Human Reproduction. 2007;22(2):548-557. https://doi.org/10.1093/humrep/del403.
- Wong CC, Loewke KE, Bossert NL et al. Non-invasive imaging of human embryos before embryonic genome activation predicts development to the blastocyst stage. Nature biotechnology. 2010;28(10):1115. https://doi.org/10.1038/nbt.1686.
- Aguilar J, Motato Y, Escribá MJ et al. The human first cell cycle: impact on implantation. Reproductive biomedicine online. 2014;28(4):475-484. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2013.11.014.
- Basile N, Vime P, Florensa M et al. The use of morphokinetics as a predictor of implantation: a multicentric study to define and validate an algorithm for embryo selection. Human Reproduction. 2015;30(2):276-283. https://doi.org/10.1093/humrep/deu331.
- Ciray HN, Campbell A, Agerholm IE et al. Proposed guidelines on the nomenclature and annotation of dynamic human embryo monitoring by a time-lapse user group. Human reproduction. 2014;29(12):2650-2660. https://doi.org/10.1093/humrep/deu278.
- Apter S, Ebner T, Freour T et al. ESHRE Working group on Time-lapse technology et al. Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Human Reproduction Open. 2020;2020(2):hoaa008. https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa008.
- Rubio I, Kuhlmann R, Agerholm I et al. Limited implantation success of direct-cleaved human zygotes: a time-lapse study. Fertility and sterility. 2012;98(6):1458-1463. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.07.1135.
- Conaghan J, Chen AA, Willman SP et al. Improving embryo selection using a computer-automated time-lapse image analysis test plus day 3 morphology: results from a prospective multicenter trial. Fertility and sterility. 2013;100(2):412-419. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.04.021.
- Campbell A, Fishel S, Bowman N et al. Modelling a risk classification of aneuploidy in human embryos using non-invasive morphokinetics. Reproductive biomedicine online. 2013;26(5):477-485. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2013.02.006.
- Campbell AJ, Fishel SB, Duffy S, Montgomery S. Embryo selection model defined using morphokinetic data from human embryos to predict implantation and live birth. Fertility and Sterility. 2013;100(3):S502. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.07.306
- Desai N, Goldberg JM, Austin C & Falcone T. Are cleavage anomalies, multinucleation, or specific cell cycle kinetics observed with time-lapse imaging predictive of embryo developmental capacity or ploidy? Fertility and sterility. 2018;109(4):665-674. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.12.025
- Reignier A, Lammers J, Barriere P, Freour T. Can time-lapse parameters predict embryo ploidy? A systematic review. Reproductive BioMedicine Online. 2018;36(4):380-387. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2018.01.001.
- Huang B, Ren X, Zhu L et al. Is differences in embryo morphokinetic development significantly associated with human embryo sex? Biology of reproduction. 2019;100(3):618-623. https://doi.org/10.1093/biolre/ioy229.
- Rienzi L, Capalbo A, Stoppa M et al. No evidence of association between blastocyst aneuploidy and morphokinetic assessment in a selected population of poor-prognosis patients: a longitudinal cohort study. Reproductive biomedicine online. 2015;30(1):57-66. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.09.012.
- Saraeva NV, Spiridonova NV, Tugushev et al. Optimizacija perenosa odnogo jembriona u pacientok s horoshim ovarial'nym rezervom. Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2020;2:43. https://doi.org/10.24075/brsmu.2020.021.
- Pribenszky C, Nilselid AM, Montag M. Time-lapse culture with morphokinetic embryo selection improves pregnancy and live birth chances and reduces early pregnancy loss: a meta-analysis. Reproductive biomedicine online. 2017;35(5):511-520. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2017.06.022.
- Armstrong S, Bhide P, Jordan V et al. Time‐lapse systems for embryo incubation and assessment in assisted reproduction. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019;5. https://doi.org/0.1002/14651858.CD011320.
- Muñoz M, Cruz M, Humaidan P et al. The type of GnRH analogue used during controlled ovarian stimulation influences early embryo developmental kinetics: a time-lapse study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2013;168(2):167-172. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.12.038
- Boynukalin FK, Serdarogullari M, Gultomruk M et al. The impact of endometriosis on early embryo morphokinetics: a case-control study. Systems biology in reproductive medicine. 2019;65(3):250-257. https://doi.org/10.1080/19396368.2019.1573275
- Aono N, Obata R, Maekawa S et al. The morphokinetic characteristics of embryos derived from pcos patients. Fertility and Sterility. 2016;106(3):e33. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.07.107
- Kotlyar A, Flyckt R, Desai N. Normal versus low AMH in patients with advanced maternal age: IVF outcomes and morphokinetic parameters. Fertility and Sterility. 2016;105(2):e27-e28. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.12.082
- Warshaviak M, Kalma Y, Carmon A et al. The effect of advanced maternal age on embryo morphokinetics. Frontiers in endocrinology. 2019;10:686. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00686.
- Kahraman S, Cetinkaya CP, Cetinkaya M et al. The effect of follicle size and homogeneity of follicular development on the morphokinetics of human embryos. Journal of assisted reproduction and genetics. 2017;34(7):895-903. https://doi.org/10.1007/s10815-017-0935-1.
- Reignier A, Lefebvre T, Loubersac S et al. Time-lapse technology improves total cumulative live birth rate and shortens time to live birth as compared to conventional incubation system in couples undergoing ICSI. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2021:1-7. https://doi.org/10.1007/s10815-021-02099-z
- Khosravi P, Kazemi E, Zhan Q et al. Deep learning enables robust assessment and selection of human blastocysts after in vitro fertilization. NPJ digital medicine. 2019;2(1):1-9. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0096-y.