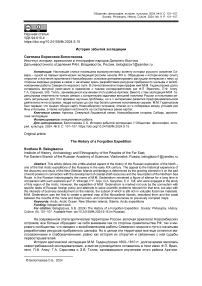История забытой экспедиции
Автор: Белоглазова С.Б.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена малоизученному аспекту истории русского освоения Севера - одной из первых арктических экспедиций россиян начала XIX в. Обращение к историческому опыту открытия и изучения архипелага Новосибирских островов детерминировано растущим интересом к нему со стороны мировых держав в связи с начатыми здесь разработками ресурсов прибрежного шельфа и возобновлением работы Северного морского пути. В отечественной историографии имя М.М. Геденштрома долго оставалось фигурой умолчания в сравнении с такими исследователями как Ф.П. Врангель, П.Ф. Анжу, Г.А. Сарычев, Э.В. Толль, занимавшихся изучением этого района Арктики. Вместе с тем экспедиция М.М. Геденштрома отмечена не только связью с конкретными задачами внешней политики России и попытками решить актуальные для того времени научные проблемы, но и с интересами развития предпринимательской деятельности на островах, недра которых до сих пор богаты ценным ископаемым сырьем. М.М. Геденштром был первым, кто создал общую карту Новосибирских островов, описал их и побережье между устьями рек Яны и Колымы, а также исправил неточности на составленных ранее картах.
Арктика, северный ледовитый океан, новосибирские острова, сибирь, арктические экспедиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149146454
IDR: 149146454 | УДК: 94:910.4 | DOI: 10.24158/fik.2024.9.15
Текст научной статьи История забытой экспедиции
На современном этапе арктические территории России, включая архипелаг Новосибирских островов, все больше обращают на себя внимание как со стороны правительства РФ, так и мирового сообщества, что связано с возобновлением работы Северного морского пути и начатыми разработками ресурсов прибрежного шельфа. Но в целом эти территории все еще остаются малоосвоенными и слабоизученными, равно как история их открытия и связанные с ней судьбы первооткрывателей.
История арктической экспедиции М.М. Геденштрома 1809–1810 гг. долгое время являлась невостребованной исследователями, а имя ее руководителя оставалось в тени имен Ф.П. Врангеля, П.Ф. Анжу, Г.А. Сарычева и Э.В. Толля, занимавшихся изучением этого района Арктики.
В 1914 г. Императорское Русское Историческое Общество опубликовало первые материалы о биографии М.М. Геденштрома1, но в советское время они были недоступны для историков, и возможность работы с ними появилась сравнительно недавно. 40 лет назад об экспедиции М.М. Геденштрома вышло первое исследование, подготовленное В.М. Пасецким. Это был раздел в монографии (впоследствии переизданной), в котором автор подчеркивал, что экспедиция имела исключительно научные цели (Пасецкий, 1984: 47–66; Пасецкий, 1986: 56–89).
К настоящему времени упоминания о М.М. Геденштроме стали чаще появляться в социальных сетях, главным образом, в статьях популярного характера, связанных с легендой о «Земле Санникова». Из публикаций последних лет научное значение имеют работы А.В. Рем-нёва (2007: 28–42) и С.И. Бояковой (2008: 64–73), расширивших на основе архивных данных информацию о биографии и деятельности исследователя. Учитывая степень изученности проблемы, настоящая статья подготовлена с целью дополнить и обобщить информацию по истории этой полузабытой экспедиции.
Основу статьи составляют записки М.М. Геденштрома (1822, ч. 17–19), фактически не востребованные историками. Эмпирический материал связан с историей русского освоения Севера на примере одной из первых арктических экспедиций россиян. В рамках синтезированного подхода использовался сравнительно-исторический метод и традиционные методы исторического и фактологического анализа, комплексного изучения социально-экономических и политических процессов, позволяющие, на наш взгляд, адекватно отразить исторические события и факты в конкретно-историческое время.
Первые сведения о земле напротив устья реки Яны были получены во второй половине XVII в. от руководителя казачьего отряда Михаила Стадухина (1646), искавшего морской путь от устья Яны до Индигирки и Колымы (Врангель, 1841: 7). В 1710 г. устьянский казак Яков Пермяков сообщил в Якутскую воеводскую канцелярию об увиденном им на пути из Лены на Колыму напротив мыса Святой нос острове, существование которого было доказано высадкой на него в 1712 г. казаков отряда Меркурия Вагина (Врангель, 1841: 23‒25). В 1761 г. во время плавания с Яны на Колыму сибирский купец Никита Шалауров сделал карту с очертанием его южного побережья (Врангель, 1841: 86).
Доказательства того, что нанесенная на карту неизвестная земля является именно островом, были получены от якутского купца Ивана Ляхова. В начале 1770-х гг., двигаясь по льду по следу диких оленей, он вышел на Первый и Второй Ляховские острова (Врангель, 1841: 93‒94). В 1773 г. открыл остров Котельный и обнаружил здесь следы пребывания русских землепроходцев. Получив указ Екатерины II о монополии на все открытые им земли, И. Ляхов организовал на них добычу песца и мамонтовой кости. Дарованная императрицей монополия привела к запрету появления и деятельности на этих территориях других промышленников, что, по сути, сделало открытые земли закрытыми территориями не только для других промысловиков, но и для официальных властей. Поэтому прибрежная зона и острова не были картографированы. В 1775, 1777 и 1778 гг. ученик геодезии С. Хвойнов по поручению Якутской воеводской канцелярии описал открытые острова в связи с их промысловым освоением и составил первую, хотя и содержавшую неточности, карту двух Ляховских островов и «полуденного берега» Котельного (Врангель, 1841: 95; Геденштром, 1822, ч. 17: 29).
В 1800 г. мещанин из Устьянска Яков Санников, занимавшийся добычей мамонтовой кости и служивший передовщиком2 в компании купцов Семёна и Льва Сыроватских, открыл остров Столбовой, а в 1805 г. ‒ Фаддеевский, открытие острова Новая Сибирь приписывают промышленникам Сыроватским (Врангель, 1841: 118).
После смерти И. Ляхова между группировками местных промышленников началась борьба за его наследство, завершившаяся фактической отменой монопольных прав на промысловую деятельность на этих землях. Компания Сыроватских при поддержке якутской администрации завладела открытыми И. Ляховым островами, а конкурировавший с ними купец Степан Протодиаконов и его компаньон мещанин Николай Бельков в 1806 г. с разрешения императора Александра I стали вести добычу мамонтовой кости на Котельном (Геденштром, 1822, ч. 17: 29–30; Пасецкий, 1986: 58). В 1808 г. Бельков открыл на запад от Котельного небольшой остров (Врангель, 1841: 119), названный его именем.
Значение открытых земель определялось не только коммерческой ценностью содержания их недр, но также столкновением интересов России и Британии в Арктике и Тихом океане. После Семилетней войны (1756–1763), в результате которой Англия укрепилась в Канаде, Северный Ледовитый океан и северная часть Тихого океана вошли в сферу геополитических интересов английской короны. В правительственных и научных кругах обсуждалась возможность Северо-Западного морского прохода из Атлантики в Тихий океан в гавани Японии, Китая и Ост-Индии.
В России идею прохода в Ост-Индию вдоль северных берегов Азии на восток разделял М.В. Ломоносов. В сентябре 1763 г. он подал на имя цесаревича Павла Петровича научный трактат с обоснованием его реальности (Ломоносов, 1990: 320–355).
Хотя существование пролива между Азией и Америкой и возможность выхода в Тихий океан были установлены С. Дежнёвым и В.Й. Берингом, в научных кругах Европы полагали, что Азия и Америка соединяются на северо-востоке перешейком, идущим от Шелагского мыса вдоль побережья материка на запад. Данный концепт утвердился после третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука, одной из задач которой был поиск морского прохода из Берингова моря в Северный Ледовитый океан. Исследуя режим приливного течения, идущего на северо-запад от мыса принца Уэльского (окт. 1778), Дж. Кук высказал мнение о том, что берега Азии и Америки где-то соединяются, так как в этом направлении приливных волнений не наблюдали, а повсюду встречали льды (Кук, 1971: 407, 515–516; Циммерман, 1786: 176–177).
Спустя 10 лет Г.А. Сарычев, используя методику Дж. Кука, исследовал режим течений и приливов напротив устья реки Колымы (июль 1787) и предположил существование «матёрой земли» на север от Шелагского мыса (Сарычев, 1802: 96–97). Вопрос о Северо-Западном морском проходе очень волновал Н.П. Румянцева, который впоследствии организовал на свои средства экспедицию О.Е. Коцебу (1815–1818) для его поиска вдоль берегов Северной Америки (Ша-миссо, 1986: 276).
Соперничество двух компаний за богатые ценным ископаемым сырьем земли привлекло внимание министра коммерции графа Н.П. Румянцева, в руки которого попало ходатайство С. Протодиаконова. В 1807 г. он запросил у сибирской администрации для себя лично сведения о новообретенных островах, которые впоследствии посчитал настолько важными, что включил их в ежегодный доклад на имя императора (Пасецкий, 1984: 50; Пасецкий, 1986: 58). Учитывая все факторы, Н.П. Румянцев принял решение направить экспедицию в район открытий И. Ляхова и Я. Санникова. В мае 1808 г. руководителем экспедиции он назначил бывшего чиновника Ревельской таможни М.М. Геденштрома, которого знал по работе в его ведомстве, но которого незадолго до этого сослали в Сибирь по делу о контрабанде1.
Цель экспедиции заключалась в обследовании открытых промышленниками островов, в первую очередь, острова Котельного, как наиболее богатого ископаемыми останками, а также в описании побережья от устья реки Яны «до Баранова камня», мыса к востоку от устья реки Колымы (Геденштром, 1822, ч. 17: 42). В задачи входило картографирование по географической широте и долготе исследуемых мест, а также описание островов в геологическом и естественноисторическом отношении. Особое внимание уделялось выявлению перспективных ресурсов для промышленного освоения (Геденштром, 1822, ч. 17: 44). Маршрут экспедиции М.М. Геденштром разрабатывал на основе неполных и даже недостоверных сведений, представленных ему якутской администрацией.
Первоначальный состав экспедиции включал самого М.М. Геденштрома, отставного землемера И. Кожевина, казаков Якутского городового полка и крестьянина Ф. Обухова, который ехал вместе с М.М. Геденштромом в качестве экспедиционного плотника. В Иркутске к основному отряду присоединился казачий десятник, в Якутске – унтер-офицер штатной роты И. Решетников, ответственный за снабжение экспедиции вооружением.
Со стороны правительства экспедиция не была оснащена должным образом. Выделенная сумма ежегодных расходов на экспедицию в размере 1 000 рублей (Геденштром, 1822, ч. 17: 31) изначально была недостаточной. М.М. Геденштром за свой счет приобрел октан, старую астролябию и морской компас (Геденштром, 1822, ч. 17: 179). Отправленное оборудование было доставлено к месту базирования экспедиции в Устьянске уже после окончания плановых работ весны 1809 г. При этом целыми сохранились только астролябия, компас, термометр, карманные часы и пантограф, остальные предметы были повреждены (Геденштром, 1822, ч. 17: 256).
Организация транспортной составляющей и снабжения пищей членов экспедиционного отряда и собак представляла для М.М. Геденштрома серьезную проблему. Для переброски грузов потребовалось большое количество тягловых животных и подвижного состава. Вместе с местными «князцами»2 улусный голова Гулимов выделил для нужд экспедиции 36 нарт (Геденштром, 1822, ч. 17: 173). Если принять во внимание, что нарту тянули 12‒13 собак, то в экспедиции было более 400 ездовых собак, изъятие которых под экспедиционные нужды ложилось тяжким бременем на местное население. Зная характер местных жителей, М.М. Геденштром не накалял обстановку, предъявляя предписания вышестоящего начальства, а располагал их к себе, угощая табаком и водкой и рассказывая об интересе, проявляемом к экспедиции самим императором.
Для питания членов отряда по окрестным улусам собрали 20 тысяч сельдей и 52 тысячи сельдей для собачьего корма (Геденштром, 1822, ч. 17: 173). Учитывая то, что потребность в питании для упряжки собак одной нарты составляла 80‒100 сельдей в день, заготовленной рыбы хватало только для полноценного питания животных в течение 25 дней. Известно также, что экспедиционные работы весной 1809 г. длились 36 дней, следовательно, заготовленной провизии изначально не хватало, что обрекало людей и животных на полуголодное существование, а в условиях сурового арктического климата ухудшало их самочувствие и создавало угрозу их жизни и здоровью.
В Устьянске к отряду присоединился Я. Санников, который помог М.М. Геденштрому составить контурный рисунок острова Котельного. Поэтому в плане работ на 1809 г. наметили обследование двух Ляховских островов, а вместо Котельного поставили исследования на Фаддеев-ском и Новой Сибири (Геденштром, 1822, ч. 17: 32). Изыскания проводились тремя отрядами во главе с И. Кожевиным, Я. Санниковым и самим М.М. Геденштромом.
Местом базирования экспедиции являлся поселок Устьянск, куда отряд прибыл из Якутска 5 февраля 1809 г. Собственно экспедиционные работы начались с 7 марта, когда экспедиция отправилась из Устьянска вдоль морского берега до мыса Святой Нос, оттуда по льдам перебралась на Первый Ляховский остров. Задержалась здесь на 6 дней из-за бурана и направилась к острову Фаддеевскому, где отряд разделился и приступил к работе в соответствии с намеченным планом. Отряд И. Кожевина сделал первое описание западной, восточной и южной частей острова Фаддеевского и провел пеленг и уточнение данных по Ляховским островам, сделанных в свое время С. Хвойновым. Отряд Я. Санникова исследовал пролив между Фаддеевским и Котельным островами, уточнил их береговую линию и нашел удобный путь для перехода с Котельного через пролив на Фаддеевский. Закончив работы, вместе со своей артелью Я. Санников перебрался на остров Новая Сибирь для помощи М.М. Геденштрому, где между делом они добыли 250 пудов (более 4 тонн) мамонтовой кости. Отряд М.М. Геденштрома сделал описание побережья Новой Сибири на протяжении 220 вёрст (233 км) и внес уточнения в данные, представленные ранее промышленниками Сыроватскими, которые, как оказалось, реально проехали 65 вёрст (69 км) вместо объявленных ими 300 (Геденштром, 1822, ч. 18: 255).
К итогам экспедиции 1809 г. следует отнести начало легенды о «Земле Санникова» и полученные М.М. Геденштромом сведения об исчезнувшем племени омóков, которое, согласно преданиям местных жителей, морем ушло с материка на север. По завершении весенней кампании отряды М.М. Геденштрома и И. Кожевина вернулись в Устьянск, а Я. Санников остался на «летовку» на Новой Сибири, занимаясь, в том числе, добычей мамонтовой кости.
С 18 апреля по 26 июля М.М. Геденштром совершил поездку из Устьянска в Верхоянск, оттуда до Верхоянского хребта и обратно в Устьянск. Во время поездки недалеко от Верхоянского хребта его нагнал нарочный из Иркутска, передавший ему бумагу с выговором от иркутского губернатора Н.И. Трескина, недовольного ходом работ (Геденштром, 1822, ч. 18: 362). Все это произвело на М.М. Геденштрома гнетущее впечатление, и, вернувшись в Верхоянск, он отправил в Иркутск путевой журнал и черновой вариант карты.
В августе М.М. Геденштром отправился из Устьянска к устью реки Чендон, попутно делая описание морского побережья. 14 сентября, когда вода в реках покрылась льдом, отправился на Индигирку, продолжая описывать побережье. Эти работы были сделаны им сверх данных ему в инструкциях заданий (Геденштром, 1822, ч. 18: 366). 15 сентября он прибыл в Русско-Устьянское селение на Индигирке. В ноябре туда возвратился Я. Санников, который вместе со своей артелью в течение лета занимался подготовкой к вывозу мамонтовой кости и поисками следов исчезнувшего народа. На Фаддеевском и Новой Сибири Я. Санников действительно нашел артефакты, принадлежавшие древним юкагирам (омóкам) (Геденштром, 1822, ч. 18: 369). Но вопрос об их дальнейшей судьбе после переселения на острова остался открытым.
На 1810 г. был запланирован разведывательный рейс на собачьих упряжках от устья Индигирки на Новую Сибирь, оттуда на северо-запад к устью Колымы, проверка версий о земле против устья Колымы и об ушедших омóках (Геденштром, 1822, ч. 18: 302–303). Зиму 1809–1810 гг. М.М. Геденштром провел на косе Меркушина Стрелка, к востоку от мыса Святой Нос. Во время тяжелой зимовки он переболел цингой, лечился, принимая селитру и отвары из кедрового стланца. 29 января он поехал по компасу прямо через тундру по короткой, но опасной дороге. За два дня пути до Устьянска у него закончились продукты, и от голода его спасли случайно встретившиеся на пути якуты. 10 февраля 1810 г. он выехал в Русско-Устьянское селение, откуда 2 марта покинул побережье материка и отправился к Новой Сибири. Берега острова его отряд достиг через 11 дней, преодолев более 480 км пути. Переход был изнурительным из-за практически ежедневных нападений белых медведей и встречающихся на пути нагромождений ледяных торосов, дорогу через которые прокладывали вручную, пробивая проходы во льдах пешнями.
Своим помощником в этой экспедиции М.М. Геденштром назначил Я. Санникова, который получил индивидуальное задание по изучению никому в то время неизвестной северо-западной части Новой Сибири. Сам М.М. Геденштром 13 марта отправился на север, в сторону Каменного мыса. Именно с этого места он увидел на северо-востоке синеву, которую принял за отдаленную землю; утром 17 марта встретился с Я. Санниковым, преодолевшим в одиночку почти 140 км трудного пути и видевшим ту же синеву (Геденштром, 1822, ч. 19: 6), но при ближайшем рассмотрении она оказалась нагромождением льдин в море, издали походившим на берег.
У Каменного мыса отряд опять разделился. Я. Санников до ноября продолжал работы на Новой Сибири и Фаддеевском, а М.М. Геденштром намеревался морем добраться до устья Колымы. На обратном пути от Каменного мыса его отряд обнаружил забитую плавучими льдинами незамерзающую морскую полынью, простирающуюся на расстояние в 700 вёрст (450 км), вплоть до Медвежьих островов, и вынужденно повернул на юг, чтобы таким путем добраться до материка. Обратный путь был не менее трудным: продукты скоро закончились, и путешественники охотились на белых медведей, чтобы прокормить себя и собак.
13 апреля 1810 г. М.М. Геденштром добрался до устья Колымы и далее до Нижнеколымска, где начал подготовку ко второму этапу экспедиции. 18 апреля он достиг Баранова камня, где переждал 7-дневную бурю; затем отправился морем на северо-восток, чтобы проверить версию о «Земле Санникова», якобы находившейся на 74° с. ш. 1 мая путешественники увидели стаю гусей и филина, летевших по направлению на север/северо-запад, клубы облаков на севере, а проводимые замеры морских глубин показали их уменьшение. Все это породило новую надежду, что искомая земля близко. Но на расстоянии 245 вёрст (260 км) от Баранова камня во льду стали попадаться трещины, которые собаки не могли преодолеть без риска потери нарт и гибели людей. М.М. Геденштром вынужденно прекратил путешествие, и 8 мая отряд вернулся к Баранову камню, 11 мая – в устье Колымы, 13 мая – в Нижнеколымск.
В начале июня, когда реки вскрылись окончательно, М.М. Геденштром отослал в Иркутск подробное описание своего путешествия, исправленные им карты и путевые журналы, и вплотную занялся вопросом о наличии напротив устья Колымы таинственной земли и версией об ушедших омóках. Однако расспросы контактировавших с русскими чукчей не принесли ему достоверной информации. Удалось записать предание о роде чукчей Шелаги с реки Чаун и Шелаг-ского мыса, которые из-за многолетней вражды с соплеменниками якобы бежали через Берингов пролив на Американский континент.
Из этого предания М.М. Геденштром узнал следующее: чукчи верят в то, что берег Америки от того места, где начинается неподвижный лед, заворачивается постепенно влево и далее идет вдоль берегов Чукотской земли в Ледовитое море, включая место напротив устья Колымы (Ге-денштром, 1822, ч. 19: 88‒89). Подтверждая гипотезу о наличии твердой земли на севере против устья Колымы и Баранова камня, М.М. Геденштром ссылался также и на концепцию Г.А. Сарычева о специфике морских течений и приливов (Сарычев, 1802: 96–97), но подтвердить практическими действиями гипотезу о северной земле не смог.
В сентябре-октябре от устья Колымы он двинулся на запад и заснял еще 500 км побережья между Индигиркой и Яной. 18 сентября, после того как Колыма покрылась льдом, М.М. Геден-штром выехал из Нижнеколымска через Верхоянск в Иркутск, куда прибыл 4 января 1811 г. и занялся планированием работ на текущий год. Однако губернатор Н.И. Трескин, который, похоже, был разочарован тем, что не удалось подключиться к добыче ископаемой кости, возбудил ходатайство о прекращении работы экспедиции, хотя план М.М. Геденштрома завершить описание Котельного, Фаддеевского и Новой Сибири принял.
Ожидая решения правительства о дальнейшей судьбе экспедиции, М.М. Геденштром остался в Иркутске. Завершением описания острова Котельного занимался Я. Санников, которому помогал унтер-офицер И. Решетников. Геодезист П. Пшеницын с помощью казачьего сотника А. Татаринова закончил описание Новой Сибири. Описание острова Фаддеевского Я. Санников и П. Пшеницын сделали вместе. В марте 1811 г. генерал-губернатор Сибири Б.И. Пестель сообщил Н.И. Трескину о том, что указом императора Александра I работа экспедиции М.М. Геденштрома прекращена. Впоследствии по итогам своих экспедиционных работ М.М. Геденштром опубликовал 9 книг и статей в журналах, однако часть его наследия все еще остается неизданной.
В заключение отметим, что экспедиция М.М. Геденштрома отмечена не только связью с конкретными задачами внешней политики России и попытками решить актуальные для того времени научные проблемы, но и с интересами развития предпринимательской деятельности в регионе по разработке месторождений и добыче ценного ископаемого сырья.
По причине разгоревшихся в начале XIX в. споров о возможности Северо-Западного морского прохода картирование арктического побережья России становилось просто необходимым. Отсюда главный результат экспедиционных исследований М.М. Геденштрома ‒ составленная им общая карта Новосибирских островов с их описанием, а также сделанная им опись побережья между устьями рек Яны и Колымы с исправлениями и уточнениями на составленных ранее картах. Получены первые сведения об экономическом потенциале Новосибирских островов. С экспедицией М.М. Геденштрома связано также рождение легенды Арктики о «Земле Санникова», которая стала темой отечественного искусства и до сих пор остается предметом научных споров.
Список литературы История забытой экспедиции
- Боякова С.И. Матвей Геденштром: известный и неизвестный // Якутский архив. № 2 (29). 2008. С. 64–73.
- Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823, и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон Врангеля: в 2 ч. СПб., 1841. Ч. 1. 370 с.
- Геденштром М.М. Путешествие Геденштрома по Ледовитому морю и островам оного, лежащим от устья Лены к востоку // Сибирский Вестник. 1822. Ч. 17. С. 27‒184; Ч. 18. С. 245‒378; Ч. 19. С. 1‒106.
- Кук Дж. Третье плавание капитана Джемса Кука. Плавание в Тихом океане в 1776–1780 гг. М., 1971. 532 с.
- Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию // Для пользы общества… М., 1990. С. 290–355.
- Пасецкий В.М. Русские открытия и исследования в Арктике. Первая половина XIX века. Л., 1984. 274 с.
- Пасецкий В.М. Путешествия, которые не повторяются. М., 1986. 268 с.
- Ремнёв А.В. Неизвестная жизнь известного полярника: Матвей Матвеевич Геденштром и III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии // Сибирь в контексте отечественной и мировой истории XVII – XXI вв.: Бахру-шинские чтения: межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 2007. С. 28–42.
- Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Во-сточному океану, в продолжение осьми лет, при Географической и Астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 год: в 2 ч. СПб., 1802. Ч. 1. 196 с.
- Циммерман Г. Последнее путешествие около света капитана Кука, славного нынешнего века мореходца, с обстоятельствами о его смерти и с приобщением краткого описания его жизни. СПб., 1786. 265 с.
- Шамиссо А. Путешествие вокруг света / пер. с нем. М., 1986. 279 с.