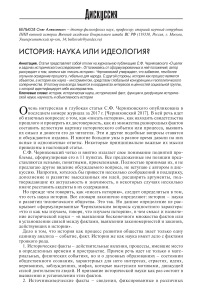История: наука или идеология?
Автор: Бельков Олег Алексеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Дискуссия
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой отклик на журнальную публикацию С.Ф. Черняховского «О целях и задачах исторического исследования». Отталкиваясь от сформулированных в ней положений, автор рассуждает о том, зачем и как «писать историю». Черняховский утверждает, что забвение, тем более огульное осуждение прошлого, гибельно для народа. С другой стороны, история как процесс является объектом, а история как наука - инструментом, средством глобальной конкуренции и геополитического соперничества. И потому она всегда пишется в координатах интересов и ценностей социальной группы, с которой идентифицирует себя исследователь.
История, историческая наука, исторический факт, функции и дисфункции исторической науки, научность и объективность истории
Короткий адрес: https://sciup.org/170170782
IDR: 170170782 | DOI: 10.31171/vlast.v26i7.5933
Текст научной статьи История: наука или идеология?
О чень интересная и глубокая статья С.Ф. Черняховского опубликована в последнем номере журнала за 2017 г. [Черняховский 2017]. В ней речь идет об извечных вопросах: о том, как «писать историю», как находить свидетельства прошлого и проверять их достоверность, как из множества разнородных фактов составить целостную картину исторического события или процесса, выявить их смысл и донести его до читателя. Эти и другие подобные вопросы ставятся и обсуждаются издавна. И многие большие умы в разное время давали на них ясные и однозначные ответы. Некоторые принципиально важные их мысли приведены в настоящей статье.
С.Ф. Черняховский четко и внятно излагает свое понимание поднятой проблемы, сформулировав его в 11 пунктах. Все предложенные им позиции представляются ясными, понятными, приемлемыми. Полностью принимая их, я не предлагаю другое видение обсуждаемого вопроса, не вступаю с автором в дискуссию. Напротив, хотелось бы привести несколько соображений в поддержку, дополнение и развитие высказанных им идей, расширить аргументы, подтверждающие их актуальность и значимость, в некоторых случаях несколько иначе расставить акценты в их содержании.
Но прежде чем говорить, как «писать историю», следует определиться в том, что есть наука история. Все словари лаконично определяют: история – наука о развитии человеческого общества. Это так. Но данное определение не раскрывает сформулированные Черняховским вопросы сущностного характера: «что и как мы изучаем, говоря, что изучаем историю», в чем смысл и назначение исторической науки – «в выявлении бесконечного множества фактов или в установлении связей между фактами, выявлении закономерностей и законов, действующих в истории».
Дело в том, что история как процесс развития общества знает только одну единицу анализа – событие, факт. История же как наука имеет дело с фактами троякого рода.
-
1. Исторические факты – действительные явления, процессы, имевшие место в определенных времени и пространстве. Причем речь идет не только о материальных, физических событиях, но и о духовных образованиях – состоянии общественного сознания, характерных для него интересах, страстях, идеях, верованиях, заблуждениях, мифах, которые выступали мотивами, движущей силой деятельности людей. И призвание исторической науки как раз состоит в выявлении и установлении этих фактов.
-
2. Источниковедческие факты – сведения, фиксированные в различных
-
3. Научно-исторические факты – теоретическая, мыслительная реконструкция прошлого, осуществляемая исследователем. Факты этого рода, являющиеся продуктом интеллектуального труда, как раз и образуют ткань науки истории. Как пишет В.С. Библер, для исторической науки факты – это образы факта, высказывания о факте, теоретическая конструкция [Библер 2007]. Но именно они составляют содержание научных монографий, мемуаров и исторических романов, школьных и вузовских учебников.
источниках – вещественных остатках материальной культуры, летописях, различного рода документах, воспоминаниях и т.д. Каждый из них и все они вместе составляют разрозненные фрагменты прошлого. Ни один из них не обладает исчерпывающей полнотой и абсолютной точностью. К тому же если первые бесстрастны, то о письменных источниках истории этого сказать нельзя. Их аутентичность и достоверность определяет исследователь.
Наука история представляет собой органический синтез фактов всех трех родов: исследование утрачивает статус науки, если игнорирует, отказывается признавать это триединство. Сведéние его к одному из них превращает науку в бессистемный и бессвязный набор хроник либо в нарратив – беллетризованный пересказ имеющейся информации об описываемых автором событиях в личностно осмысленной им связи и последовательности, либо в абстрагированное от событийной стороны исторического процесса историософское осмысление и раскрытие исторических закономерностей.
Иными словами, факт и высказывание о факте – не аутентичные феномены. Высказывание о факте всегда субъективировано. Историю пишут люди, не свободные от личных пристрастий, непредумышленных ошибок, а порой и корыстных расчетов. Далекие от правды жизни сведения в ней могут быть следствием и добросовестного заблуждения, и злого умысла.
В этой связи встает вопрос, о котором Черняховский говорит, не останавливаясь на его дискуссионности, подчеркивая «политическое значение развития классической исторической науки». Я имею в виду взаимосвязь истории и идеологии, истории и политики.
Господствующий (модный, популярный) ныне мейнстрим исходит из необходимости деидеологизации и деполитизации едва ли не каждой сферы общества и каждого вида человеческой деятельности, в т.ч. и истории. Многие авторы, касающиеся этой темы, объясняя и обосновывая объективность исторической науки, пишут, как об очевидной данности, что она деидеологизирована и депо-литизирована. На высоком официальном уровне говорится об этом не как о данности, а как об императиве.
«Политики, оставьте историю историкам. Перестаньте играть в историческую политику», – говорит, например, заместитель генерального директора Музея Москвы Никита Соколов1. А в Концепции внешней политики РФ в редакции 2013 г. говорилось, что Россия видит свои задачи в том, чтобы способствовать деполитизации исторических дискуссий, переводу их исключительно в академическое русло.
Конечно, люди вольны призывать вывести историю за рамки политики. Но не получается оставить историю историкам.
Во-первых, историей интересуются, ее изучают не только профессионалы-исследователи, но и огромная масса людей, не входящих в научное сообщество историков: создатели исторических романов и кинофильмов, любители-краеведы, участники движения исторической реконструкции, другие группы населения, для которых увлечение историей является хобби. Во-вторых, исто- рия стала предметом публицистики. В истории многое определяет расстановка акцентов. И публицистика, равно как кино и шире – искусство, расставляя эти акценты, наряду с академической наукой формирует исторический дискурс всего общества.
Кстати сказать, и в среде профессиональных историков наличествуют полярные взгляды на исторические события; специалисты-историки вовсе не единодушны в объяснении и оценке фактов и фигур прошлого. И дискуссии, развертывающиеся в академическом русле, не утрачивают политическую заостренность. К тому же какая разница обществу, получающему политическую трактовку тех или иных событий, являются их авторами политики, академики или публицисты? Различные вбросы так называемой альтернативной истории одинаково пагубны независимо от того, в какой среде они разрабатываются. В Основах государственной культурной политики (утв. указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808) в числе пяти наиболее опасных для будущего России проявлений гуманитарного кризиса названы «деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России».
История не должна и не может быть деполитизированной. О связи истории и политики пишут многие. Тезис о политическом значении исторической науки следует проговорить до конца. Политическое значение, т.е. смысл, содержание и роль исторической науки, состоит в следующем.
Во-первых, история формирует историческое и, следовательно, национальное самосознание народа, его идентичность и отношение к государству и существующей в нем власти.
Во-вторых, история дает, вернее, в ней ищут и находят материал для обоснования определенных интересов, ценностей, идеалов. Не история и ее трактовки вторгаются в область сегодняшних политических интересов, а политические субъекты привлекают историю для обоснования и оправдания своих целей и действий.
В-третьих, история служит основой для выработки актуальной политики, обеспечивает жизнеспособность и жизнестойкость социума. Для конкретного исследователя изучение истории может быть удовлетворением собственной любознательности. Но социальная востребованность науки истории, ее становление и развитие вызываются отнюдь не психологией, а соображениями мировоззренческого (раньше говорили – идеологического) и политико-практического характера.
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, – писал В.Г. Белинский, – чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем». «Задача историка, – констатировал А.А. Свечин, – заставить памятники прошлого отвечать на вопросы современности… Мы же от историка требуем смелую, свежую и непосредственно касающуюся нас мысль, даже если дело идет о древней Греции и Риме» [Постижение военного… 1999: 486-487]. Именно об этом пишет Черняховский, отмечая, что верное понимание уроков прошлого является условием эффективности действий в настоящем и будущем.
В-четвертых, история как процесс является объектом, а история как наука – инструментом, средством глобальной конкуренции и геополитического соперничества. Специалисты отмечают, что в последние 20 лет в Европе реальностью стала историческая политика – использование истории, исторических фактов, определенным образом интерпретированных, для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей1.
В-пятых, история как наука не просто описывает процессы и события, имевшие место в прошлом. Ее назначение – выработка систем ценностей, обоснование того, что должно быть и чего не должно быть в социальном мире. «Историки, – писал Н.И. Кареев, – и не думая об этом, все-таки продолжают судить и рядить… Одни развенчивают, снимают с пьедесталов, записывают на черную доску тех, кому кланялось человечество; другие занимаются реабилитацией, возвышением, прославлением… Где история, там и суд, но часто суд односторонний, пристрастный, неправый… Прогоните его в явной форме, он вотрется к вам невидимкой: в выборе, освещении предмета…» [Кареев 1991: 26]. Как констатировал французский поэт и политический деятель А. Ламартин, «беспристрастие истории – не безразличие зеркала, которое только отражает предметы; это – беспристрастие судьи, который смотрит, слушает и произносит приговор»1.
В полном соответствии с этим и Черняховский подчеркивает, что «осмысление и оценка исторического события не может производиться без учета степени его соответствия тем или иным интересам».
В той мере, в какой историческая наука содержит оценку политических процессов с определенных позиций, т.е. содержит различные предубеждения, она является идеологией. Так я подошел к вопросу, вынесенному в заглавие статьи.
Давайте определимся с понятием. Что такое идеология? Среди многих определений идеологии отправным, базовым является ее понимание как системы идей и взглядов, выражающих коренные интересы какой-либо социальной группы. Но ведь и народ государства представляет собой такую группу. «Государство, – писал К. Шмитт, – есть политический статус народа, организованного в территориальной замкнутости» [Шмитт 2011: 17]. При отсутствии такой системы происходит атомизация общества – распад традиционных связей в обществе, социальное разобщение, появление изолированных индивидов, социальные связи которых носят безличный характер; народ вырождается в население, для которого судьба государства, в котором оно живет, в лучшем случае безразлична.
История как наука не просто раскрывает процессы и события, имевшие место в прошлом. Она устанавливает их причины и последствия. Она описывает и осмысливает их сквозь призму социально-групповых (государственных, классовых, этнических, конфессиональных и т.д.) интересов.
Выявляя и освещая явления и процессы прошлого, историк оценивает их соответствие (несоответствие) определенному идеалу в координатах истины и заблуждения, добра и зла, прекрасного и безобразного, святости и греховности, законности и преступности, справедливости, гуманизма.
Разработка любой исторической темы проводится в координатах определенной системы. Соглашаясь с этим, мы признаем, что история – наука идеологизированная. Здесь мы вступаем в известное противоречие с конституционной нормой, устанавливающей, что в России нет обязательной или государственной идеологии. Наверное, правильно, что в демократическом и плюралистическом обществе обязательной идеологии не должно быть. Но это предполагает наличие множества идеологий. В их ряду не может не быть и государственной, вернее, государственнической идеологии.
Государственной, т.е. государством разрабатываемой, идеологии, возможно, и не должно быть, поскольку она по определению окажется обязательной. Но государственнической идеологии, отражающей интересы, ценности, идеалы государства, в т.ч. заявленные в Конституции РФ (идея суверенитета, пар ламентари зма, социального равенства, прав и свобод человека, идея защиты
Отечества как долга и обязанности гражданина и т.д.), не может не быть. И государство по определению должно поддерживать такую идеологию и способствовать ее распространению. Так, В.В. Путин, выступая против «казенной идеологии», подчеркнул, что «государство обязано и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять ‹...› на формирование мировоззрения, скрепляющего нацию»1.
Декларируемый отказ от идеологии вовсе не делает общество и разные группы в нем деидеологизированными. Просто одни идеологии публично осуждаются и отвергаются, другие становятся малозаметными, маргинальными, третьи выступают под чужим, якобы не идеологическим флагом.
История по определению наука тенденциозная. Тенденциозность исторического исследования выражается в приверженности автора определенной идее и может иметь двоякую форму.
С одной стороны, она проявляется в пристрастном или предвзятом, необъективном, одностороннем истолковании исследуемой темы.
Нельзя не видеть, что есть так называемые историки, которые родную историю видят и трактуют не как верные и вдумчивые сыны отечества, но как не знающие ни милосердия и сострадания, ни естественной для нормального человека снисходительности к собственным слабостям, ни даже широко популяризуемой ныне толерантности. Их усилиями создается так называемая альтернативная история. Она представляет собой исследования, сбор фактов и представление какого-либо события, явления, государства, народа, личности в таком виде, который кардинальным образом отличается от традиционной (академической) истории. Часто «альтернативщики» истории преследуют коммерческие, политические цели. При этом результат в большинстве случаев разительно отличается от официальной истории. Разница в подходах к анализу исторических событий и артефактов позволяет альтернативной истории «доказывать», что довольно много положений официальной истории не более чем миф, а иногда и подлог. Такая тенденциозность ничего общего с наукой не имеет.
Порою специально оговаривается, что неправильно, тенденциозно описанная и изученная история никого, никогда и ничему не научит. Более того, она вредна, ибо самое худшее для общественно-политической практики – это ориентировка на искаженный исторический опыт2. Однако это не так. Альтернативная история тоже учит и воспитывает. Но ее ученики и последователи становятся ненавистниками России.
С другой стороны, речь идет о последовательном проведении определенных идей, тенденций. Имея в виду именно эту сторону, М.Е. Салтыков-Щедрин объяснял громадное воспитательное значение художественных произведений тех писателей, которые были тенденциозны тем, что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. «Разрозненность, случайность, вялость, — отмечал он, — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены»3. Оценку Салтыков-Щедрина в полной мере можно отнести и к историческим работам.
Как уже говорилось, Черняховский пишет, что история должна быть позитивной: «...основная задача восстановления целостного и позитивного виде- ния истории – рассмотрение истории России/СССР с позиции позитивной истории». Согласимся и признаем, что в позитивности и состоит ее тенденциозность. Позитивность не означает, что исследователь отбирает только положительные факты и фигуры истории, умалчивая о грехах, горестях и бедах России. Нет, историю надо писать объективно и честно. «Первый закон истории, – писал М.Т. Цицерон, – бояться какой бы то ни было лжи, а затем – не бояться какой бы то ни было правды»1. Честный историк должен говорить и о тех несправедливостях, виновником которых была Россия, и о тех, что творились по отношению к ней.
Объективность как важнейший методологический принцип науки истории предполагает точное воспроизведение событий, явлений и фигур, какими они являлись в действительности. Никаких домыслов, предположений, неопределенности или амбивалентности в описании событийной стороны не должно быть. При этом в анализ включаются все известные факты без каких-либо умолчаний независимо от отношения к ним. Именно и только хроника – перечень и описание событий в их временной последовательности – составляет объективное содержание исторической науки.
Но в объяснении выявленных и исследуемых фактов, отношении к ним, в оценке их причинно-следственных связей, значения и последствий объективность уступает место тенденциозности (в советское время говорили «партийности», понимая под ней соответствие классовым интересам, партийным установкам). Еще раз процитирую Черняховского: «Самое странное, что может быть, – это отказ от принятия тех или иных критериев оценки исторических событий с позиций тех или иных социальных интересов, поскольку значение события в принципе не может быть определено вне вопроса о том, относительно чего и для кого значение этого события определяется».
Всякий ученый придерживается ценностных установок и идеалов определенной социальной, этнической, религиозной и т.д. группы, и в силу этого его взгляды определенным образом идеологизированы и политизированы. Так, не по партийной принадлежности, а по жизненной позиции либерал и консерватор, монархист и республиканец, социалист и националист одни и те же факты воспринимают и оценивают по-разному. «Чтобы писать историю достойным образом, – иронизировал французский лексикограф Пьер Буаст, – надо забыть о своей вере, своем отечестве, своей партии» [Борохов 2003: 220]. Нужно ли говорить, что такое на деле невозможно? В этом смысле предельно категоричен был Карл Поппер: «Объективность и непредвзятость на уровне конкретного ученого практически недостижимы» [Дэникен 2006].
О том, чем должен руководствоваться автор труда по национальной истории, Карамзин высказывался так: «Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызывать интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье и умалять в своем повествовании бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом, может, он сделается национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк»2.
Таким образом, отвечая на поставленный в названии статьи вопрос, скажу так: история – наука, но наука идеологизированная.
Список литературы История: наука или идеология?
- Библер В.С. 2007. Исторический факт как фрагмент действительности. - Библер и вокруг: сайт. Доступ: bibler.ru/bis_istor_fakt.html (проверено 27.11.2015)
- Борохов Э. 2003. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. М.: АСТ. 720 с
- Дэникен Э., фон. 2006. Каменный век был иным... Будущее, скрытое в загадках прошлого. М.: Эксмо. 288 с. Доступ: http://vikidalka.ru/1-73680.html
- Кареев Н.И. 1991. Суд над историей. - Рубеж. № 1. С. 6-32
- Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. 1999. М.: Русский путь. 696 с
- Черняховский С.Ф. 2017. О целях и задачах исторического исследования. - Власть. № 12. С. 7-10
- Шмитт К. 2011. Понятие политического. М.: НИЦ «Инженер». 291 с