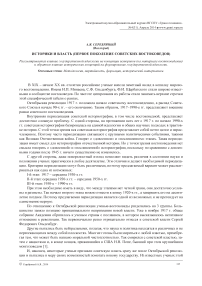Историки и власть (первое поколение советских востоковедов)
Автор: Серебряный Аркадий Яковлевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Личность, общество, государство: историко-методологический аспект
Статья в выпуске: 4 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается влияние государственной идеологии на концепции историков (на материале востоковедения) и обратное влияние исторических концепций на формирование государственной идеологии.
Методология, партийность, формация, исторический материализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14822094
IDR: 14822094
Текст научной статьи Историки и власть (первое поколение советских востоковедов)
В XIX – начале ХХ вв. столетия российские ученые внесли заметный вклад в копилку мирового востоковедения. Имена И.П. Минаева, С.Ф. Ольденбурга, Ф.И. Щербатского стали широко известными в сообществе востоковедов. По частоте цитирования их работы стали занимать верхние строчки этой специфической табели о рангах.
Октябрьская революция 1917 г. положила начало советскому востоковедению, а распад Советского Союза в начале 90-х гг. – его окончанию. Таким образом, 1917–1990-е гг. представляют внешние рамки советского востоковедения.
Внутренняя периодизация советской историографии, в том числе востоковедной, представляет достаточно сложную проблему. С одной стороны, на протяжении всех лет с 1917 г. по начало 1990-х гг. советская историография базировалась на единой идеологии и общих научных подходах в трактовке истории. С этой точки зрения вся советская историография представляет собой нечто целое и нерас-члененное. Поэтому часто периодизацию связывают с крупными политическими событиями, такими как Великая Отечественная война. Говорят о «довоенном» и «послевоенном» этапах. Такая периодизация имеет смысл для историографии отечественной истории. Но с точки зрения востоковедения нет смысла говорить о «довоенной» и «послевоенной» историографии, поскольку по сравнению с довоенными годами после 1945 г. ничего существенно не изменилось.
С другой стороны, даже поверхностный взгляд позволяет видеть различия в состоянии науки и положении ученых практически в любое десятилетие. Эти отличия и делают необходимой периодизацию. Критерии периодизации могут быть различными, поэтому предлагаемый вариант может рассматриваться как одна из возможных:
I-й этап: 1917 – середина 1930-х гг.
II-й этап: середина 1930-х гг. – середина 1950-х гг.
III-й этап: 1950-е – 1990-е гг.
При этом необходимо иметь в виду, что между этапами нет четкой грани, они достаточно условны и размыты. Так начало второго этапа можно отнести к концу 1920-х гг., а завершить его на десятилетие позднее. Поэтому предлагаемая периодизация является одной из возможных и не претендует на единственно верную.
По отношению к Октябрьской революции ученые-востоковеды разделились на 3 группы. Большинство заняло позицию принципиального непризнания новой власти. Уже в ноябре 1917 г. общее собрание Академии обратилось к ученым страны с посланием, в котором высказывалось негативное отношение к революции. Так первоначально резко отрицательно отнесся к советской власти Сергей Федорович Ольденбург.
Другие пытались быть нейтральными, полагая, что наука и политика находятся в различных и не пересекающихся между собой плоскостях. Многие готовы были мириться с любой властью, пренебрегая тем, что может быть названо моральной чистоплотностью. Так смирился с советской властью, затем с нацистами и, в конце концов, прижившийся в США Н.Н. Попе, бывший при этом крупнейшим монголоведом [1].
И, наконец, некоторые ученые признали советскую власть сразу же после Октябрьской революции и пытались в меру своих возможностей помогать новому государству. Из известных ученых этой группы можно назвать В.В. Струве, А.Е. Снесарева [5; 8]. Отношение большевиков к исторической науке в целом и к востоковедению в частности было различным.
Дореволюционная историческая наука в целом была признана буржуазной, не отвечающей нуждам пролетариата. Поэтому исторические факультеты были закрыты, профессорско-преподавательский состав уволен. Многие историки были вынуждены заняться различными работами, к истории никакого отношения не имеющими. Школьные курсы истории были отменены, и тем самым был ликвидирован фундамент пирамиды, вершиной которого была университетская наука.
Отношение к востоковедению было во многом более либеральным. Восточный факультет Петроградского университета, являвшийся центром сосредоточения «старых» востоковедных кадров, был сохранен. Несмотря на все трудности гражданской войны, продолжали публиковаться серьезные исследования. В качестве отдельных примеров можно назвать изданную в 1919 г. книгу известного путешественника и специалиста по Тибету Г.Ц. Цыбикова «Буддийский паломник у святынь Тибета» [4]. Это была первая буддологическая работа, изданная в Советской России. В том же году была опубликована работа Б.Я. Владимирцева о буддизме в Монголии и Тибете. Еще через год была опубликована книга путешественника П.К. Козлова «Тибет и далай-лама» (1920 г.) [7].
В 1919 г., в момент наступления белых армий на Петроград, в городе была устроена первая буддийская выставка, посвященная религии, истории, искусству буддизма. На выставке с лекциями выступали С.Ф. Ольденбург и Ф.И. Щербатской.
Такое отношение к восточному сегменту исторической науки объяснялось просто. Практические потребности советского государства, проводившего активную политику стимулирования национальных движений в колониях, требовали специальных знаний специалистов-востоковедов. Востоковедение стало рассматриваться как один из инструментов для подготовки революций в странах Востока.
В некотором смысле ситуация для востоковедения стала даже более благоприятна, чем в дореволюционные годы. Начали возникать многочисленные центры для изучения Востока, издаваться востоковедные газеты и журналы.
Первым советским изданием, полностью сосредоточенным на национальных проблемах, стала газета «Жизнь национальностей», преобразованная позднее (в 1922 г.) в журнал «Восток». Газета, а затем журнал, регулярно публиковала материалы о революционных процессах в азиатских странах. Авторами, как правило, выступали представители коммунистических кружков (затем партий) Турции, Индии, Ирана, Китая. Долгие годы это были наиболее популярные, но далекие от науки издания. Многие авторы не имели связей со своей родиной и реального положения дел там не знали.
Частично поэтому их статьи были наполнены фантазиями о неизбежности в ближайшие годы победы мировой социалистической революции, о превращении компартий в общественных лидеров национально-освободительных движений. Серьезно обсуждался, например, вопрос о возможности усилиями турецких военнопленных, находящихся в Советской России, осуществить социалистическую революцию в Турции, Иране, Индии.
Таким же, популярным в 20-е гг., был журнал «Революционный Восток», «Коминтерн» и др. В это же время стали создаваться специальные научно-учебные заведения для подготовки кадров советских и партийных работников для национальных регионов России: Туркестана, Кавказа, Поволжья.
Самые известные среди этих заведений – Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), Университет им. Сунь Ятсена, Коммунистический университет трудящихся Китая, Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова.
Совершенно оригинальным типом учебного заведения стал Институт Красной профессуры (ИКП), открытый в 1921 г. Он должен был готовить «красных профессоров», т.е. преподавателей высшей квалификации, придерживающихся большевистских взглядов на историю.
В институт принимались только члены компартии с фиксированным партийным стажем. Высшего образования для поступления в ИКП не требовалось. Среди поступивших встречались лица с
6–7-летним образованием. Через 3 года выпускники ИКП становились профессорами в высших учебных заведениях.
Будущие «красные профессора», избравшие своей специальностью историю Востока, получали добавочный год учебы для изучения какого-либо восточного языка. Ни один из крупных востоковедов к преподаванию в этих университетах не был привлечен. Лекции читали крупные партийные руководители – И.В. Сталин, Г.Е. Зиновьев, Н.А. Бухарин.
Обязательным условием научно-преподавательской работы с начала 20-х гг. становится следование государственному мировоззрению, которое обычно называлось марксизмом-ленинизмом. В действительности это был особый, советский марксизм. Он покоился на отдельных, часто вырванных из контекста цитатах, которым к тому же давалось толкование, иногда прямо противоположное мыслям авторов учения. Так, например, К. Маркс, рассуждая о результатах английской политики в Индии, говорил о двух последствиях колониализма – разрушительном и созидательном. При этом под разрушительными последствиями он подразумевал разрушение основ традиционного общества, мешающих развитию. В советской историографии эта мысль К. Маркса была сведена исключительно к негативной характеристике колониализма.
В связи с зигзагами внешней политики советского государства много раз происходила смена оценок одних и тех же событий, политических деятелей и т.п. Марксизм в советской трактовке означал классовый подход ко всем явлениям общественной жизни, партийность исторической науки, признание единого для всего человечества пути развития от первобытности к коммунизму через последовательно сменяющие друг друга общественно-экономические формации.
Эти идеи легко воспринимались многими молодыми историками, имевшими за плечами только гимназическое образование. Некоторые из них пришли в историческую науку из революционной деятельности. Специальной исторической подготовки они не имели. Сами себя они считали больше «солдатами Коминтерна», чем историками-исследователями.
Большинство авторов этой группы свою работу в качестве историков рассматривали как выполнение политических заданий партии. Они были чрезвычайно политически активны, выполняя непосредственные задания органов власти, часто публичные, иногда тайные. Так, китаевед и японовед Д.М. Позднеев выполнял в Китае и Японии работу по заданию Главного разведывательного управления Красной Армии [6]; Г.Н. Войтинский по заданию Коминтерна проводил в Китае работу по созданию КПК.
Историки этой группы были тесно связаны с наркоматом по иностранным делам и Коминтерновскими органами, расположенными в Москве. Поэтому эта группа авторов часто называлась московской.
Авторы московской школы занимались, прежде всего, современной историей, революциями, национальными движениями, колониализмом и т.п. Все процессы, происходившие в колониях, они объясняли исключительно их классовой структурой и организацией экономической жизни. Историки этой школы часто строили свои выводы, плохо владея фактическим материалом. К достижениям буржуазной науки они относились резко отрицательно.
Наиболее известными в те годы авторами «московской школы» были М.П. Павлович, Г.Н. Войтинский, Л.И. Мадьяр, П.А. Миф и др. [6]. Наиболее профессионален был М.П. Павлович (1871–1927), который начал изучение Востока до Октябрьской революции. В Париже, находясь в эмиграции, он встречался с революционными эмигрантами из Индии, Китая, Турции, Ирана. Его научные интересы относились преимущественно к Ближнему Востоку.
Увлеченный борьбой восточных народов, он стал специализироваться по проблемам колониализма и империализма. У М.П. Павловича были собственные взгляды на ряд общетеоретических и методологических вопросов, в частности, на природу империализма, место и роль реформ в развитии общества. С позиций сегодняшнего дня можно отметить, что некоторые взгляды историка были вполне современны. Так, М.П. Павлович полагал, что империализм есть политика некоторых держав, стремящихся к гегемонии. Он считал, что русская революция 1905–1907 гг. для Востока имела такое же зна- чение, как Французская революция конца XVIII в. для Европы. К сожалению, свои идеи М.П. Павлович излагал в статьях, ставших к настоящему времени библиографическим раритетом.
Одним из наиболее известных авторов начала – середины 20-х гг. был Г.Н. Войтинский (1893– 1953), более всего известный своей ролью, которую он, по заданию Коминтерна, выполнил в создании Компартии Китая в 1921 г.
Как историк Г.Н. Войтинский регулярно выступал со статьями, посвященными различным аспектам революционного движения в Китае в 20-е гг.: «Гоминьдан и Компартия Китая в борьбе с империализмом», «К вопросу об ошибках китайской Компартии в революции 1925–1927 гг.», «Партия Гоминьдан и китайская революция», «Положение на юге Китая и правительство Сунь Ятсена» и др. Практически все работы были опубликованы в журнале «Новый Восток» и в являющемся сегодня библиографической редкостью журнале «Солдат революции». Г.Н. Войтинский в своих работах дисциплинированно проводил линию Коминтерна в китайском вопросе.
Политическая биография П.А. Мифа в общих чертах сходна с биографией Г.Н. Войтинского, за исключением жизненного эндшпиля: Г.Н. Войтинский был в конце жизни просто отстранен от возможности заниматься активной работой, а П.А. Миф погиб в результате репрессий. Павел Александрович Миф (1901–1939) был и политиком, и историком. В качестве первого он активно участвовал в работе КПК. В частности, он принял активное участие в организации V и VI съездов КПК (1925 и 1926 гг.).
В качестве историка П.А. Миф был автором первых советских монографий по новейшей истории Китая: «Уроки шанхайских событий» (1926) и «Китайская революция» (1930). Следует признать крайне неудачный выбор названий, из которых не ясно, о чем идет речь. В первой из названных монографий речь идет о событиях апреля 1927 г., в результате которых Гоминьдан и КПК начали из союзников превращаться во врагов. Вторая монография посвящена революции 1925–1927 гг. Источниковой базой для работ П.А. Мифа явились документы Коминтерна и сведения, собранные им лично во время командировки в Китай. Он выступал как один из родоначальников обвинений руководства КПК в лице Чень Дусю (до августа 1927 г.) в правом оппортунизме, что далеко не всегда соответствовало действительности. Другими словами, в большинстве случаев работы этих авторов часто были простой подборкой фактов, которые должны были обосновать политику ВКП(б) и Коминтерна по тому или иному вопросу.
В целом, работы этих персонально названных, а также других авторов московской школы 20-х гг. быстро устарели и представляют только историографический интерес. Но при всех недостатках, работы этой группы авторов имели определенное положительное значение. Оно состояло в привлечении интереса к современности, более пристальному вниманию к проблемам революционных, национально-освободительных революций, социально-экономическим темам.
Поскольку некоторые историки были и практическими работниками Коминтерна и принимали активное участие в политической истории восточных стран, сообщаемые ими сведения по ряду вопросов могут считаться первоисточниками до настоящего времени. Например, по истории создания Компартии, характеристикам отдельных политиков и т.д.
Далеко не все авторы 20-х гг. безоговорочно примкнули к основным положениям государственной идеологии. Но обсуждать вопросы классовости и партийности было практически невозможно, т.к. всякое сомнение считалось покушением на теорию диктатуры пролетариата. Проще дело обстояло с теорией формаций. Сомнение в ее универсальной достоверности непосредственным покушением на власть, казалось, не было. Поэтому были возможны дискуссии.
Первыми в советской историографии, высказавшими сомнение в абсолютной научной состоятельности теории, были историки-востоковеды. Некоторые исследователи пришли к выводу, что страны востока по ряду характеристик принципиально отличались от европейского варианта развития. Это отличие было так велико, что не позволяло относить их ни к одной из формаций, существовавших на Западе.
Отличие в основном состояло в том, что земля – основа жизни аграрных обществ – находилась в собственности государства. Между государством и непосредственными земледельцами находился класс чиновников, выступавших в роли полномочных представителей государства и действовавших от его имени. В силу этого, само государство приобретало бюрократический характер. В реальной жизни именно чиновники определяли величину платежей за землю (ренту), размер налогов и т.п. Иначе говоря, считали многие, это была особая формация, которую назвали Азиатской или Азиатским способом производства (АСП). На наш взгляд, теория АСП была попыткой примирить «дырявую» формационную теорию с реалиями Востока. Были и другие попытки. Так некоторые авторы стали говорить о «восточном феодализме». Иными словами, феодализм был, но с некоторыми особенностями.
Такое несовпадение ситуации на Востоке с положением на Западе вызвало сомнение в универсальности теории 5 формаций. Дискуссии продолжались до конца 20-х гг. В 1929 г. была опубликована статья В.И. Ленина, относящаяся к 1919 г., в которой об особенностях Востока не было сказано ни слова. В то время это был решающий аргумент, и все дискуссии были прекращены.
Для укрепления единомыслия был организован политический процесс по сфабрикованному делу группы историков, обвиненных в заговоре с целью свержения советской власти, т.н. «Академическое дело». Большинство проходивших по этому делу в ходе допросов и последующей ссылки (в массовом порядке еще не расстреливали) были морально сломлены и стали послушными исполнителями и даже пропагандистами советской государственной идеологии.
В дискуссиях 20-х гг. участвовали в основном молодые историки «московской школы», пытавшиеся дать марксистскую интерпретацию данным науки.
Но еще были живы ученые дореволюционной выучки, работавшие в основном в Ленинграде. Они мало интересовались общими теориями, не вытекавшими непосредственно из анализа изучаемых памятников. С этой точки зрения можно говорить о «ленинградской школы востоковедения», ставшей преемницей лучших традиций дореволюционного востоковедения. Их мало занимала теория, ставшая государственной идеологией. Они продолжали заниматься древними и средневековыми рукописями, религиями и философией Востока. Продолжили начатую до 1917 г. работу такие крупные исследователи как В.В. Бартольд, И.Ю. Крачковский, Б.Я. Владимирцев и ставшие известными в 30-е гг. Н.И. Конрад, Н.А. Невский и др [2; 3].
Василий Владимирович Бартольд (1869–1930 гг.) – выдающийся ученый, открывший новую страницу в отечественном востоковедении. Не существует критериев, по которым один историк относится к разряду выдающихся, другой – известных, третий – крупных и т.д. Несомненно, однако, что значимость исследователя определяется новизной темы и оригинальностью выводов.
В.В. Бартольд практически первым поднял для научной разработки такой пласт исламской цивилизации, как среднеазиатский регион, на основании источников, хранящихся в Бухаре, Самарканде, Ташкенте. Первой большой работой, ставшей классической и принесшей ее автору мировую известность и авторитет лучшего знатока истории Средней Азии, был «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (1898–1960). По единодушному мнению специалистов, эта работа составила целую эпоху в изучении истории Средней Азии.
В.В. Бартольд не просто рисовал картину жизни среднеазиатских народов в конкретное время. Это было одновременно и главным образом размышление о месте народов Востока во всемирной истории. Ученый был противником идей о существовании неких неизменных расовых свойств и их решающем влиянии на судьбу народов. Он полагал, что история народов не может быть результатом действия какой-либо одной причины. Глубоко ошибаются те, кто считает, что такой причиной является религия. Отсталость многих регионов мира с преобладанием в них мусульманского населения состоит не в догматах ислама. При тех же догматах были времена, когда мусульманские страны показывали образцы динамичного развития, опережая страны с господством иных религий. Точно так же обстоит дело с влиянием конфуцианства.
Исследования В.В. Бартольда (общим количеством около 700 работ) создали ему огромный авторитет не только в кругах ученых. Автору этих строк в начале 70-х гг. ХХ в. В Ташкенте довелось услышать историю о том, как в начале 20-х гг. во время посещения ученым Ташкента, Бухары, Самарканда, с двух враждебных сторон – советской власти и движения сопротивления этой власти – были даны строгие указания охранять историка. В.В. Бартольд был противником теорий о возможности революционного, скачкообразного развития общества, признавая исключительно эволюционный путь. За это в 20-х гг. ХХ в. он часто подвергался примитивно-вульгаризаторской критике как буржуазный ученый.
Хотя с философскими идеями ученого можно дискутировать, его исторические исследования сохраняют свое научное значение до настоящего времени. Общепризнанными являются заслуги В.В. Бартольда как организатора науки и педагога. Некоторые из его учеников поднялись до уровня своего учителя. Одним из наиболее известных до настоящего времени является Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951 гг.) – выдающийся ученый-арабист. Талант И.Ю. Крачковского многогранен, и многие, даже не подозревая об этом, знакомились с его творчеством в качестве редактора полного русского издания сказок «Тысяча и одна ночь». Он был крупнейшим специалистом по арабской литературе и языку, переводчиком и исследователем. Его перу принадлежит более 450 печатных трудов, но наибольшую известность он приобрел в качестве переводчика Корана.
История переводов Корана на русский язык может быть темой самостоятельного исследования. Знакомство с Кораном началось в начале XVIII в., когда по инициативе Петра I был подготовлен первый русский перевод (1716 г.). Но «первый блин», согласно поговорке, «вышел комом». Главная причина состояла в том, что перевод был сделан не с оригинального текста на арабском языке, а с не совсем удачного французского перевода. В XVIII в. были предприняты еще несколько попыток перевода, но все они были сделаны с европейских языков. Только во второй половине XIX в. были сделаны два перевода Корана с арабского языка. Однако и они содержали многочисленные искажения, из-за стремления к буквальной точности часто терялся смысл. Кроме того, переводчики в понимании текста следовали комментариям исламских ученых, вносивших в толкование Корана идеи и понятия, возникшие через века после появления священной книги.
И.Ю. Крачковский начал работу по переводу Корана в 1915 г. и продолжал ее на протяжении полутора десятка лет. Новизна работы состояла в том, что он отказался рассматривать Корна преимущественно как философский и религиозный памятник. Он исходил из того, что это, прежде всего, литературный памятник. Это привело к принципиальным изменениям в методике перевода. И.Ю. Крачковский дал литературный перевод, освободив его от традиционных толкований. Сталкиваясь с малопонятными местами, Крачковский давал им объяснения, исходя из стиля самого Корана, опираясь, прежде всего на языковую среду времени создания памятника.
Таким образом, для И.Ю. Крачковского Коран есть литературный памятник, возникший в определенное время и в условиях конкретной политической, идеологической и языковой ситуации на Аравийском полуострове.
За несколько месяцев до Октябрьской революции, после научной командировки в Японию к работе в Петербургском университете приступил Н.И. Конрад. Николай Иосифович Конрад (1891– 1971 гг.) был ученым широкого диапазона: филологом, переводчиком-литературоведом, культурологом. Преимущественная сфера интересов Н.И. Конрада лежала в области восточноазиатской цивилизации и, прежде всего, Японии. В 1923 г. была опубликована его книга «Япония. Народ и государство».
Серьезное значение для понимания истории Китая, Кореи и Японии имеют исследования, относящиеся к аграрной структуре этих стран. Это прежде всего такие работы, как «Надельная система в Японии» (1936 г.), «Надельная система в Китае». Можно не соглашаться с отдельными тезисами Н.И. Конрада: относительно времени существования надельной системы (он датирует ее эпохой от раз- вала Ханьской империи и до конца эпохи Тан), относительно определения ее как феодальной, о введении фактического крепостного права и т.д. В целом, однако, Н.И. Конрад в легкодоступной форме дал описание надельной системы, того общего и особенного, что существовало в аграрном строе трех восточноазиатских стран.
Как культуролог Н.И. Конрад последовательно проводил идею культурного равноправия Востока и Запада. В работе «Восток и Запад» ученый резко отрицательно отзывался об идее европоцентризма. Но одновременно он категорически отвергал и азиатоцентризм, заметно проявляющийся у многих востоковедов, считающих, что вообще все ценное для человечества возникло на Востоке.
Научную и литературную известность приобрел Борис Яковлевич Владимирцев (1884–1931 гг.). Широкой читательской аудитории он стал известен прежде всего как автор увлекательного исторического романа «Чингис-хан». Но прежде чем стать популярным литератором, он стал крупным ученым, специалистом по истории Монголии и монголоведом широкого профиля – филологом, этнографом, литературоведом.
Крупнейший труд Б.Я. Владимирцева – «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм» (опубликован посмертно в 1934 г.). БУченый был первым советским историком, назвавшим общественный строй монгол феодальным, а монгольское общество расколотым на классы. Он впервые ввел в научный оборот понятие «кочевой феодализм». Здесь сказалось уже обязательное для середины 30-х гг. отнесение любого общества к какой-либо определенной формации.
Серьезным вкладом Б.Я. Владимирцева в историческую науку стала изученная им история распространения буддизма у монгол. Причины победы буддизма над прежними религиями монгол он видел в «разочаровании» шаманизмом.
Основной труд Б.Я. Владимирцева переведен и издан в странах, где монголоведение традиционно находится на высоком уровне (Япония, Китай, Турция). В современной Монголии работа долгое время была практически учебником по ряду вопросов национальной истории. Монголам очень льстит оценка, которую Б.Я. Владимирцев дал Чингиз-хану. Под пером Владимирцева хан предстает как мудрая, сильная, гениальная личность, творящая историю.
В силу естественных причин, к началу 30-х гг. многие ученые ушли из жизни. Оставшиеся более молодые ученые начали перестраиваться и интерпретировать свои изыскания в марксистском духе. В целом первый период советской историографии наполнен разнообразным и противоречивым содержанием.
С одной стороны, продолжались создаваться работы, ставшие классическими и являющиеся гордостью советской историографии, в научный оборот были включены проблемы, прежде практически отсутствующие в российской историографии. Широкую известность получили историко-философские теории, что способствовало теоретическим дискуссиям и появлению новых исторических идей. С другой стороны, быстро утверждавшаяся едина государственная идеология, фактически вводившая административный контроль и цензуру начали серьезно тормозить творческую мысль и влиять на содержание исторических работ. К концу этапа дискуссии были запрещены и все историки были обязаны придерживаться теорий, ставших обязательными.
Список литературы Историки и власть (первое поколение советских востоковедов)
- Алпатов В.М. Николай-Николас Попе. М.: Восточная литература, 1996.
- Бадаев Е.В. Роль Н. И. Конрада в развитии советского востоковедения в 1940-е годы//Вестник Кузбасского гос. тех. ун-та. 2006. № 6. С. 151-155.
- Долинина А.А. Игнатий Юлианович Крачковский как исследователь арабской литературы//Народы Азии и Африки. 1985. № 2. С. 107-117.
- Доржиев Ж.Д., Кондратов А. М. Гомбожаб Цыбиков//Сер: Замечательные люди Сибири. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1990.
- Милибанд С.Д. Академик В.В. Струве: библиографическая справка. М.: ИВЛ, 1959.
- Никифоров В.Н. Советские историки о проблемах Китая. М.: Издательство «Наука», 1970.
- Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов -исследователь Центральной Азии. М.: Наука, 1964.
- Цамутали А.Н. А.Е. Снесарев -исследователь Индии//Индия: история и современность. СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2009. С. 250-266.