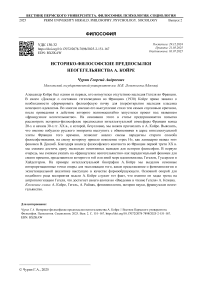Историко-философские предпосылки неогегельянства А. Койре
Автор: Чурин Г.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Александр Койре был одним из первых, кто возмутился отсутствию наследия Гегеля во Франции. В своем «Докладе о состоянии гегелеведения во Франции» (1930) Койре прямо заявлял о необходимости сформировать философскую почву для (пере)открытия наследия классика немецкого идеализма. Во многом именно его выступление стало тем самым спусковым крючком, после приведения в действие которого полномасштабно запустился проект под названием «французское неогегельянство». На основании этого в статье предпринимается попытка рассмотреть историко-философские предпосылки интеллектуальной атмосферы Франции конца 20-х и начала 30-х гг. XX в., к которой, безусловно, мы можем причислить и А. Койре. Выяснить, что именно побудило русского эмигранта выступить с обвинениями в адрес интеллектуальной элиты Франции того времени, позволит анализ смены парадигмы старого способа философствования, на смену которому пришло поколение «трех H», как лапидарно назвал этот феномен В. Декомб. Благодаря анализу философского контекста во Франции первой трети XX в. мы сможем достичь сразу несколько позитивных выводов для истории философии. В первую очередь, мы сможем указать на «французское неогегельянство» как парадигмальный феномен для своего времени, представители которого в той или иной мере вдохновлялись Гегелем, Гуссерлем и Хайдеггером. На примере интеллектуальной биографии А. Койре мы выделим основные интерпретационные точки опоры для экспликации того, какое представление о феноменологии и экзистенциальной аналитике выступало в качестве формообразующего. Основной опорой для подобного рода восприятия мысли А. Койре служит тот факт, что именно он задал тренд на антропологизацию Гегеля, что достигнет своего апогея во «Введении в чтение Гегеля» А. Кожева.
А. Койре, Гегель, А. Райнах, феноменология, история науки, французское неогегельянство
Короткий адрес: https://sciup.org/147250985
IDR: 147250985 | УДК: 130.32 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-2-151-167
Текст научной статьи Историко-философские предпосылки неогегельянства А. Койре
Accepted: 21.05.2025
Цель нашего исследования состоит в выявлении особенностей той интеллектуальной атмосферы, в которой формировалось столь значимое для мировой философии направление, как французское неогегельянство. Во-первых, мы обратимся к такому влиятельному в XIX в. во Франции философскому течению как спиритуализм. Во-вторых, проанализируем вклад берг-сонизма и феноменологии в формирование этой атмосферы. В-третьих, будут исследованы непосредственные историко-философские предпосылки творчества А. Койре: рецепции феноменологии Гуссерля–Райнаха, экзистенциальная аналитика М. Хайдеггера, концепция философии науки Э. Мейерсона.
Наша гипотеза состоит в том, что именно развитие указанных философских течений позволило А. Койре в 1930-х гг., с одной стороны, заявить об отсутствии гегельянской традиции во Франции как о серьезном изъяне, а с другой стороны — первым провозгласить курс на антропологическое прочтение Гегеля.
Спиритуализм XIX века, бергсонизм и феноменология как ранние предпосылки французского неогегельянства
Исследование предпосылок философского творчества основных представителей французского неогегельянства непроизвольно принуждает нас к тому, чтобы обратиться к наследию XIX столетия, где гремели имена мыслителей из школы идеологов (Кабаниса, де Траси, например), Мен де Бирана, В. Кузена, Ф. Равес-сона, Ш. Ренувье и, наконец, А. Бергсона.
Одновременно с критикой наследия века Просвещения и его последним издыханием в виде школы идеологов на авансцену философии во Франции вышло новое течение — спиритуализм, основоположником которого по праву можно считать Мен де Бирана. Следуя разделению, предложенному в диссертации А.А. Кротова «Философия Мен де Бирана» [Кротов А.А., 2000, с. 19], мы сконцентрируемся на втором этапе творчества Мен де Бирана, на протяжении которого он выступает с критикой школы идеологов и их философского проекта — преимущественно, конечно, концентрируя всю мощь удара вокруг таких титанов своего времени, как Д. де Траси и П.Ж.Ж. Кабанис.
Второй этап философских штудий Бирана особенно важен для нашего исследования, т.к. его рецепцию мы можем отыскать у французских философов конца XIX столетия. В сочинении 1806 г., «Об анализе мышления», Биран окончательно порывает с идеологами по ряду пунктов. Он не согласен с интерпретацией активного ощущения. Его, по мнению Бирана, следует интерпретировать через подвижность волевого усилия человека, не редуцируемого до физиологического истолкования, как это было у де Траси, что влечет за собой и новый статус волевого начала в доктрине Бирана. Отныне воля объявляется «сверхорганическим» элементом.
Ко всему прочему, классификация ощущений на активные и пассивные привели Бирана к отказу от идеологической догмы о качественном единстве опыте, что отстаивалась в «Элементах идеологии» де Траси.
В ходе полемики с идеологами Биран оттачивает и свой метод, аккумулирующий в себе сразу несколько функций:
-
1) интроспекцию, благодаря которой мы открываем для себя присутствие идей;
-
2) дедукцию, которая сопоставляет наши идеи с полученными данными и на их основании выносит умозаключения;
-
3) повторную интроспекцию, необходимую для того, чтобы удостовериться в корректности дедукции второго шага.
Рефлексивный метод позволяет нам вскрыть два основных модуса мысли (пассивное и активное восприятие), на плечах которых стоит все здание человеческого знания и интеллектуальные способности человека в целом.
Пожалуй, самым важным для историкофилософской традиции сочинением Мен де Бирана можно назвать его незаконченный «Опыт о психологии», т.к. именно в нем будет заложено то концептуальное ядро, что будет одновременно и способствовать теоретическому развитию спиритуализма, и приведет его к кризису или невозможности адаптироваться к актуальному философскому полю, как это произошло с бергсонизмом, на смену которому очень кстати придет феноменология.
Главной задачей своего труда Биран ставил построение научной психологии, поиска ее незыблемого основания. Примечательным аспектом такой задачи является тот факт, что Биран не проводил различия между метафизикой и психологией, т.е. построения научной психологии может расцениваться и как проект построения метафизики как науки.
В качестве базиса новой дисциплины Биран выделяет факт сознания. Факт в доктрине Бирана есть все, что существует для нас, все, что мы можем воспринимать извне, ощущать в нас самих, постигать в наших идеях, условный гус-серлевский reel, если искать исторические аналогии. Для факта сознания нужен его носитель, т.е. психологический субъект. Открыть доступ к этому факту мы можем лишь посредством интроспекции, в противном случае, замечает Биран, никакое знание для нас не будет доступным и явленным.
В ходе дескрипции факта сознания Бираном мы можем столкнуться со следующими выражениями: он выступает «основой науки о принципах», «исток науки вообще», «первое знание», «сущностное начальное условие» внешних восприятий, «общее и необходимое условие всех других фактов», «фундамент всех доказательств».
Таким образом, самосознание выступает условием любого факта сознания и любого факта в принципе, потому что в каждом нашем познавательном акте присутствует конкретная постоянная — наше «Я», чувство индивидуального существования. Именно внутреннее ощущение «Я», которое сохраняет свое единство в ходе познания, является фундаментом научной теории психологии. Значимым дополнением к характеристике этого внутреннего чувства является утверждение о том, что чувство «Я» не принадлежит ни сфере чувственного опыта, ни сфере рассудочной деятельности, оно постигается непосредственно и очевидно через волевое усилие. Для обращения к самому себе, т.е. для осуществления интроспекции, человек должен задействовать свою волю, которая выступает причиной действия нашего «Я». Таким образом, воля и есть тот самый первоначальный акт сознания, тождественный «Я».
Сверхорганический характер воли, которым ее наделил Мен де Биран, повлиял на его систему «антропологического спиритуализма». Антропология Бирана рождается из критики материализма и физиологии, аргументы против которых мы можем найти в «О непосредственной апперцепции», «Опыте об основаниях психологии», «Философских речах». Критика материализма проводится им по 2 основным линиями: первая связана с отказом редуцировать человеческую волю к ее материальным детерминантам, что обусловлено тем, что воля человека опирается на внутреннее, а не на внешнее чувство; вторая связана с установлением зависимости мышления человека от его тела. В данном случаем наиболее удобным нам представляется свести критику Бирана к критике натурализма: зависимость тела и мышления рождаются вследствие натурализации сознания, которое пытаются исследовать средствами естественнонаучных дисциплин, что наделяет содержание сознания пространственными характеристиками.
Метафизические заблуждения же, как полагал французский философ, можно преодолеть в том случае, если мы сможем осуществить проект «примирения» философских истин. Основанием для такого сближения всех идей будет выступать «научная психология» Бирана с ее первичным фактом сознания в качестве базиса для построения науки о внутреннем опыте человека.
Одним из самых влиятельных и известных популяризаторов идей Мен де Бирана был В. Кузен, называвший Бирана своим учителем. Кузен сохранил ряд теоретических допущений Бирана, но одновременно с этим он хотел избавиться от онтологического дефицита биранов-ской системы, которая подразумевала невозможностью познания субстанций внешней действительности. Главный посыл Кузена можно представить так: в философии должны остаться только те истины, которые основываются на соответствии научной психологии и ее принци- пов. В исследованиях актов сознания Кузен выделял два метода: индукцию, обеспечивающую построение научных систем, и наблюдение, за счет которого мы могли бы обосновать положения школы Здравого смысла (одними из идейных вдохновителей философии В. Кузена стали Т. Рид и Д. Стюарт).
Метод наблюдения с необходимостью принуждает нас обратиться к данным собственного сознания, обладающих непосредственным и очевидным характером. Таким образом, первым разделом философии эклектизма становится психология, которую Кузен вслед за Бира-ном отождествлял с гносеологией. Все факты сознания мы можем поделить на три несводимых друг к другу группы: факты ощущения, факты воления и факты понятия.
Виктор Кузен не желал отождествлять разум и волю, т.к., по его мнению, в таком случае мы не смогли бы объяснить соответствие понятий нашего разума опытным данным. Так свое название получила доктрина «безличности разума», признающая за разумом высшую познавательную способность, с чем боролся поздний Мен де Биран.
Еще одним и, пожалуй, главным нововведением в спиритуалистической философии В. Кузена стало введение онтологии. Кузен настаивал на возможности перехода от психологии к онтологии, аргументируя эту позицию тем, что разум, чтобы иметь представления о чем-либо, должен включать в себя некий материал в виде феноменов, т.к. породить собственное содержание благодаря себе самому разум не способен. Из этого В. Кузен делает следующий вывод: если разуму нужны феномены в качестве посылок для собственного рассуждения и познания внешнего мира, а эти феномены находятся за пределами нас, то мы можем утверждать с достоверностью, что внешний мир есть и его необходимо изучать. В устройстве мира Кузен выделял три рода сущностей: тварные индивидуальные души людей; нематериальные силы природы — «безличные духовные монады»; Бог, которого исповедуют христиане.
В 1830-е гг. В. Кузен начал читать курс лекций в Сорбонне, на одной из которых объектом его внимания стал Аристотель. В учении Ста-гирита Кузен находил черты эклектизма, в чем сам Кузен, используя argumentum ad hominem, находил корректное обоснование своей линии философии: «Аристотель обосновывает и организует, и, стало быть, ничего не исключает. Он все классифицирует (classe) — как системы, так и идеи и предметы. Вместо того чтобы презирать системы своих предшественников, он их исследует, изучает и, путем углубленного анализа, сводит к их элементарным принципам» (цит. по [Блауберг И.И., 2014, с. 52]). Примерно в тот же период на философскую арену Франции выходит Ф. Равессон, первое сочинение которого, представленное в качестве эссе для конкурса Академии моральных и политических наук, было посвящено «Метафизике» Аристотеля. Мемуар Равессона, посвященный трудам Аристотеля, был высоко отмечен председателями Академии, в том числе и В. Кузеном. Первое сочинение Равессона, зато́ченное на изучение исторического и философского контекста «Метафизики» Аристотеля, а также ее последующему влиянию на историю философии вплоть до Канта, заканчивается риторическим вопрошанием о будущем философии, о ее облике и характерных чертах. Среди таковых Равессон выделяет три: 1) «Подлинный метод состоит в обращении духа к самому себе, где он схватывает себя одновременно в своей потенции и в своем развитии, как активную причину и абсолютную силу»; 2) «Высший принцип всякой реальности, как в существовании, так и в мышлении, — это сила, где бесконечное и конечное непрестанно различаются и отождествляются в движении жизни. — Система мышления и мира строится, путем гармоничного развития, на основе принципа силы как универсальный динамизм»; 3) «Закон философского метода отражает закон мышления и существования; это развертывание и свертывание (анализ и синтез), сведение различий ко все более высокому единству, где они обретают свое значение и абсолютную истину. …Именно эти, отныне бессмертные, принципы направляли нас в работе и будут направлять впредь в наших философских занятиях» [Блауберг И.И., 2014, с. 56].
В трех упомянутых характеристиках «философии будущего» будут сконцентрированы основные векторы творчества Равессона.
Положительную рецензию на работу Равес-сона мы находим в одном из писем В. Кузена, отправленных Шеллингу, после чего между Шеллингом и Равессоном устанавливается интеллектуальное сотрудничество, которое в большей мере, нежели диалог самого Кузена с Шеллингом, обогатит французское сообщество идеями немецкого мыслителя. Диалог между Шеллингом и Равессоном связан с публикацией «Фрагментов» В. Кузена, который послал их для ответной реакции Гегелю и Шеллингу. Во «Фрагментах» Кузен давал общую оценку развитию философии во Франции и других странах, включая Германию. Если рецензия Гегеля в ответном письме Кузену выдержана в дружеском тоне, то рецензия Шеллинга выдержана в критическом и негативном ключе. В. Кузен, стремящийся к диалогу между двумя странами, пожелал включить замечания Шеллинга при публикации своего сочинения в качестве предисловия к основному тексту. Перевести с немецкого шеллинговскую критику «Фрагментов» было поручено Равессону. В своем переводе Равессон нисколько не стремился к тому, чтобы выступить в защиту Кузена, который считал Равессона своим лучшим учеником (с таким статусом Равессон, конечно, не хотел мириться). Во многом из-за рецензии Шеллинга в отношениях между Равессоном и Кузеном наметился разрыв, благоприятно отразившийся на последующей судьбе самого Равессона: во-первых, Равессон впервые установил отношения с Шеллингом, которые сохранит на долгие годы, вплоть до смерти немецкого философа; во-вторых, именно в этот период «Равессон действительно осознал, кто он есть, и, скажем так, открыл самого себя в период с 1835 по 1837 гг., в эти два года, разделяющих написание мемуара и первого тома “Опыта”, а главным образом — в 1837–1846…», по удачному замечанию А. Бергсона [Бергсон А., 2010, с. 202]. После разрыва с Кузеном и критическим исследованием творчества Аристотеля в свет выходит первый том фундаментального труда Равессона, принесшего ему известность, — «Опыт о Метафизике Аристотеля». В этом сочинении Равессон будет развивать основные интуиции своего первого мемуара об Аристотеле, а также, разбирая различия между платоновской и перипатетической доктринами, сформулирует основной вектор своей философии: исследуя основания метафизики, Равессон утверждает, что в этой дисциплине «всеобщность понятий должна соединяться с реальностью индивида, сущность — с существованием, мышление — с бытием, абсолютная универ- сальность — с абсолютной индивидуальностью» (цит. по [[Блауберг И.И., 2014, с. 68]).
В 1837 г. Равессон сдал экзамены на степень агреже и приступил к написанию своей докторской диссертации, посвященной проблеме привычки. Непосредственным предшественником в исследовании природы привычки является Мен де Биран и его ранее сочинение, еще идеологического периода. Примечательно, что сам Равессон несколько раз ссылается на Мен де Бирана в своей работе, с пиететом перечисляя его заслуги, но в своей основе — в методологии, в логических ударениях собственных рассуждений, в границах постановки проблемы привычки, которая выйдет в труде Равессона на уровень универсума, в чем сказывается уход Равессона в сторону от избранного Бираном курса. В диссертации Равессона мы можем отыскать будущие причины популярности анимизма и витализма Бергсона: Равессон ссылается на таких ярких фигур интеллектуальной культуры Нового времени, как Ян Баптист, Ван Гельмонт, Шталь, Рихтер, Биш, Бонне, Бюис-сон и мн. др. виталистов XVI–XVIII вв. Ключевым мыслителем для Равессона из всей этой плеяды был немецкий ятрохимик Георг Эрнст Шталь. В его воззрениях Равессона привлекало учение, согласно которому нематериальная душа является началом всего живого на Земле «не в рефлективной форме, но в форме инстинктивной мудрости и интуиции» (цит. по [[Блауберг И.И., 2014, с. 74]). Равессон полагал, что привычка есть константный модус существования живого существа. Обнаружить привычку становится возможным при определенной онтологической модификации: существо в своем модусе существования переходит от небытия к бытию, продолжительность которого зависит от причины, актуализирующей это существо. Отсюда следует первичное определение Равессоном «привычки» — это «предрасположенность к изменению, порожденная в существе непрерывностью или повторением одного и того же изменения» [Блауберг И.И., 2014, с. 75]. Определив причину появления привычки, Равессон стремится выяснить ее онтологические основания, ввиду чего обращается к иерархии бытия, в котором выделяет мир органической и неорганической природы. По его мнению, все существующее в мире стремится продолжить свое существование, это фундаментальный закон бытия. Условием существования любого живого существа Равессон называет единство постоянства и изменчивости, т.к. всякое существо живет в пространстве, которое имеет относительно устойчивую и постоянную форму, а время — форма изменчивая. На первом уровне иерархии бытия, в неорганическом мире, посредством взаимозависимости пространства и времени, постоянства и изменчивости, формируются условия для возникновения привычки, но не она сама, т.к. в неорганическом мире отсутствует подлинное единство бытия, Равессон называет его «гетерогенным». Подлинная привычка возникает только на органической стадии, на уровне «жизни», а не «организации», хотя последняя выступает материей для первой, но именно жизнь наделяет косную материю формой и единством. Одновременно с этим на органическом уровне возникает носитель жизни — субстанция, развивающая свою внутреннюю и имманентную ей потенцию. Только такое существо — субстанция — обладает жизненным началом, реализуемым им в качестве бытия природы. «Привычка может начаться только там, где начинается сама природа» (цит. по [Блауберг И.И., 2014, с. 77]). Одновременно с этим переопределяются и условия возникновения привычки — постоянство и изменения. Отныне их реализация способствует развитию спонтанности и восприимчивости, основным центром которых является душа. Душа — это не поддающаяся естественной детерминации сущность, которая выводит нас на уровень свободы: «Существо, изначально вышедшее из фатальности механического мира, предстает в нем в осуществленной форме наиболее свободной активности. А это существо — мы сами» (цит. по [Блауберг И.И., 2014, с. 79]). Отсюда мы выводим существование сознания, подразделяющегося на интеллект и волю. Открытие сознания позволяет нам заново посмотреть на дискурс о природе: «В сознании, напротив, одно и то же существо действует и видит действие, или скорее действие и видение действия совпадают. Автор, драма, актер, зритель составляют единое целое» (цит. по [Блауберг И.И., 2014, с. 79]). Благодаря сознанию мы можем исследовать причину привычки, ее «первопринцип». В качестве метода такого исследования Равессон избирает метод аналогии, полагая, что, если все существа имеют в себе духовное зерно, то, обращаясь к собственному сознанию, мы сможем делать выводы о внешних феноменах.
Развивая свои рассуждения, Равессон обращается к анализу привычки и инстинкта, следуя в данном пункте Мен де Бирану. Привычка схожа с инстинктом, который представляет собой изначальные стремления живого существа, но менее рефлексивного плана, нежели привычка. Равессон поясняет это таким образом, что изначально инстинкт сопровождает привычку, а привычка, вырабатываемая посредством обучения, повторяемости и иных способов закрепления одного и того же действия, выводит саму себя снова на инстинктивный уровень, когда человеку нужно не рефлексировать о чем-либо, а исполнять уже привычный набор действий. Таким образом, мы сталкиваемся с кругом: инстинкт порождает привычку и привычка порождает инстинкт. Выйти из него Равессон пытается посредством бирановского разделения всех человеческих сил на активные и пассивные. Связь между ними, полагает Ра-вессон, состоит в том, что каждый из этих видов силы сопровождается неким неотчетливым источником активности, который присутствует и на уровне чувственности, т.е. пассивности, и на уровне активности, волевого усилия. В качестве примера такой смутной активности Равес-сон приводит праздное качание на качелях: когда мы медленно раскачиваемся на них, то в нас непроизвольным образом просыпается желание спать, которое можно прервать так скоро, как скоро мы перестанем качаться. Так Равес-сон обнаруживает в структуре живого существа прослойку, находящуюся ниже воли и интеллекта, но сопутствующую им.
Развитие привычки, постепенное поглощение целевой причины действующей, обусловлен «влечением» и «желанием», в чем, по мнению Равессона, проявляется «закон благодати». Этот закон говорит о том онтологическом преимуществе, которое привносит привычка в порядок природы, смешивая цель и ее совершение, закон и свободу. По мнению Клода Брюэра, закон благодати должен быть понят в аристотелевском ключе — как «бытие в потенции, т.е. дух в природе» (цит. по [Блауберг И.И., 2014, с. 88]).
Диссертация Равессона считается одним из самых главных его сочинений наравне с «Опытом». Она оказала значительное влияние на Бергсона, в частности на его понимание инде-терминации и времени в «Опыте о непосредственных данных сознания».
Метод спиритуализма, предложенный Ра-вессоном, позволит нам осознать, что все наше отрефлексированное знание проистекает из внутреннего действия, которое не подчиняется ни пространству, ни времени, ни «условиям протяженности и даже длительности» [Блауберг И.И., 2014, с. 122]. В этом заявлении мы можем обнаружить как связь с Бираном, так и влияние на последующую традицию, что позволяет нам говорить о спиритуализме как едином течении: отказ от анализа внутреннего опыта посредством физических категорий был рассмотрен нами при изложении бирановской критики материализма. Бергсон уже в своем «Введению в метафизику» [Бергсон А., 1999] и в сборнике «Мысль и движущееся» [Бергсон А., 2010] предложит не ограничиваться рамками внутреннего опыта, указывая на то, что вся наша жизнь и есть длительность сменяющих друг друга психических состояний.
Чтобы перейти к разговору о Бергсоне, необходимо обратиться к контексту эпохи, в которую философия Бергсона появляется. Следуя понятию «имплицитной психологии», предложенного П. Гийомом, суть которого состоит в том, что вместе с философией у нас существует практическая дисциплина, обращенная к познанию Другого и самого себя, к имплицитной психологии мы можем отнести и спиритуализм с его поиском метода для исследования фактов сознания и внутреннего опыта человека вообще. Вместе с «имплицитной психологией» нам надлежит выделить понятие психологии «экспериментальной», появившейся во Франции вместе с переводческой и пропагандистской деятельностью Т. Рибо. В 1870 г. Рибо выпускает сочинение «Современная английская психология», в котором знакомит французское сообщество с английской психологией, последовательно разбирая теории таких мыслителей, как Д. Гартли, Дж.С. Милля, Г. Спенсера, А. Бэна и мн. др., закладывая тем самым фундамент для совершенно нового, не-философского понимания психологии. Примечательным для нас является введение к «Современной английской психологии», где Рибо, критикуя философию за праздные вопросы, которые не позволили стать ей точной и строгой дисциплиной, предлагает отмежеваться психологии от своего истока, чтобы развиваться в новую научную и строгую дисциплину. По мнению Рибо, если предметом метафизики являются Бог и душа человека, то психология как наука должна отказаться от различного рода рассуждений о метафизических предметах, т.к. они не поддаются проверке [Рибо Т., 1895, с. 3–23]. В 1879 г. Рибо публикует работу «Современная германская психология», в которой можно встретить описание теорий Фех-нера, Вундта, Лотце и Гербарта. Влияние, оказанное Рибо на своих современников, было колоссальным, следствием чего стало освобождение психологии от своего подчиненного перед философией положения и введения в 1885 г. нового курса в куррикулум Сорбонны — курса по экспериментальной психологии. Привнесение ассоцианизма с его эмпиризмом и немецкого атомизма с его стремлением к натурализации сознания и желанием найти общие законы мышления и зависимости впечатлений от ощущений (прежде всего, здесь имеется в виду закон Фех-нера–Вебера) привели к резкой критике сразу в двух европейских центрах философии: Гуссерль будет критиковать натурализм и психологизм, а Бергсон — позицию, согласно которой мы мо- жем представить ментальный ряд в качестве дискретного и казуального, что позволит вычленить определенные закономерности нашего мышления, подобные физическим законам.
Господство бергсонизма с приходом феноменологии во Францию не смогло удержать свои позиции в силу излишней психологизации действительности и ригористического антисциентизма Бергсона, предавшего забвению позитивное научное ядро спиритуализма Мен де Бирана.
С другой стороны, родство бергсонизма и феноменологии в их предметном аспекте — состояниях сознания — позволило французской публике приступить к изучению феноменологии в снятом виде, если использовать гегелевскую терминологию. Ко всему прочему следует выделить и ряд других причин, позволяющих нам говорить о зарождении феноменологии во Франции [Шпигельберг Г., 2002, с. 427–439].
-
1) Немаловажную немаловажную роль во Франции в 1920–1930-е гг. играла фигура Леона Брюнсвика, философа, который истолковывал понятие сознания в картезианском ключе и, что особенно роднит его с Гуссерлем, пытался поставить философию на научные рельсы. Картезианство Леона Брюнсвика стало решающим фактором для принятия гуссерлевской философии после 1929 г., когда в своих «Парижских докладах» Гуссерль пересматривал взгляд на вклад Декарта в философию и признал за феноменологией определенные неокартезианские тенденции.
-
2) Неотомистская философия во Франции чувствовала определенную близость к Гуссерлю в его проекте критики психологизма, который был удачно согласован с реабилитацией таких категорий, как сущность и идея, приближенных к платонизму.
Критика Гуссерля не воспринималась как необходимая предпосылка принятия его доктрины, ввиду чего он не вошел в обязательный тезаурус Жильсона и других неотомистов. Немаловажным будет заметить, что такое значимое для феноменологии понятие, как «интенциональность» воспринималась представителями католической философии в исконно схоластическом ключе, что позволяло им использовать феноменологический метод, оставаясь в русле томистской и средневековой мысли.
-
3) Протестанская философия во Франции, теснимая, с одной стороны, психологизмом, истоком которого следует считать редукцию религии к человеческой чувственности в трудах Шлейермахера, а с другой, ортодоксальным ригоризмом Карла Барта, обращенного против философии, нашла в феноменологии то средство, что позволило избавиться от нападок с обеих сторон, т. к. феноменология выводила религиозное сознание за пределы чувственности в область их интенциональных референтов.
-
4) Не последнюю роль в пришествии феноменологии на французскую почву сыграли трагические события начала XX в. — Первая Мировая война, тяжелое экономическое положение послевоенной Франции, связанное с военными займами, а затем и последующая за этими событиями Великая депрессия сделали свое дело. Наиболее удачно новые философские требования 1920–30-х гг. отразил Ж.-П. Сартр в «Критике диалектического разума», описывая потребность в ответе на вопрос, кто такой человек в его конкретности, а не в универсальном виде, о чем вещали университетские философы с кафедр. Заданный бергсонизмом тон на изучение всеобщих онтологических и гносеологических проблем привел не только к тому, что бергсо-низм потерял свой авторитет в лице общественности, требующей ответы на вызовы времени, но и сформировал некий философский вакуум во французской философии, т.к. популярные на тот моменты философы вроде Гастона Башляра, Андре Лалланда, Эмиля Мейерсона и мн. др. так же, как и Бергсон, главным образом сосредоточились на изучении гносеологических, а не экзистенциальных проблем, возникших вследствие ряда социальных катаклизмов.
На первый план в 1930-е гг. в феноменологии во Франции выходит категория «существования», заслугу введения которой стоит признать за Э. Левинасом.
Ее анализ и приложение в рамках феноменологического метода сблизило французских феноменологов с экзистенциальной аналитикой М. Хайдеггера, привнесению которой в идейное поле 1930-х гг. тоже поспособствовал Левинас, выпустив в 1932 г. в журнале «Revue Philosophique» статью «Мартин Хайдеггер и онтология».
Пожалуй, лучше всего специфику феноменологии во Франции отразил Мерло-Понти в своем творчестве. Он никогда не признавал себя строгим адептом Хайдеггера или Гуссерля, он выбирал нечто между феноменологией и экзистенциализмом, как впоследствии говорил об этом П. Рикер [Вдовина И.С., 2009, с. 25].
Мерло-Понти не призывал философов сконцентрироваться на открытии новых истин в философии, он, желая отталкиваться от наличной данности, был убежден, что феноменология Гуссерля неотделима от проекта Хайдеггера, т.к. является раскрытием темы Lebenswelt`а позднего Гуссерля. Человек должен осознать свою сопряженность с миром, связь с налично данным, понять, что «мир уже тут, до моего анализа» [Мерло-Понти М., 1999, с. 8], ввиду чего мир нужно не конституировать, а описывать. Описывать себя и мир, свое присутствие в нем и отношение в мире возможно, по мнению Мерло-Понти, посредством феноменологической редукции, подлинный смысл которой открывает для нас максима экзистенциальной философии Хайдеггера: мы зависимы от мира, наше бытие всегда есть бытие-в-мире.
Наконец, еще одной философской фигурой, экспортированной во Францию, стал Гегель. В ХХ в. интерес к швабскому мыслителю проявился вновь в связи с открытием его «ранних» сочинений, посвященных религиозной тематике, — «Жизнь Иисуса», например. Одним из первых людей во Франции, кого привлекли ранние труды Гегеля, был Ж. Валь, опубликовавший в 1929 г. свое знаменитое сочинение «Несчастное сознание в философии Гегеля» [Валь Ж., 2006].
Подход Валя, ученика Бергсона, можно назвать подходом старого поколения, предшествовавшего поколению «трех H» (Hegel, Husserl, Heidegger), как об этом пишет В. Декомб [Декомб В., 2000, c. 10]. Особый интерес к философии Гегеля смог «пробудить» А. Кожев, который на своих семинарах осуществил концептуальный перевод современных ему философских течений — феноменологии Гуссерля и экзистенциализма Хайдеггера — на язык Гегеля, тем самым сделав его современником французских интеллектуалов 1930-х гг. [Курилович И.С., 2018].
Специфику сближения такого перевода стоит искать в творчестве А. Койре, впервые заявившего как об отсутствии гегельянской традиции во Франции, так и первым провозгла- сившего курс на антропологическое прочтение Гегеля. Обратимся к исследованию непосредственных историко-философских предпосылок творчества Койре, коррелирующих с основными веяниями эпохи, а именно — к рецепциям феноменологии Гуссерля–Райнаха, экзистенциальной аналитики М. Хайдеггера и концепции философии науки Э. Мейерсона, чтобы очертить контур восприятия феноменологии и фундаментальной онтологии в рамках французского неогегельянства как переломного для своего времени течения мысли.
Историко-феноменологическая линия философии А. Койре
В настоящей статье нам хотелось бы условно выделить две линии творчества Александра Койре, позволяющих говорить о влияния философской эпохи, в период которой жил и творил А. Койре, на его мысль: первую линию можно условно назвать «историко-феноменологической», где речь в первую очередь идет о влиянии А. Райнаха, Э. Гуссерля и Э. Мейерсона, в то время как вторую линию мы назовем «темпоральной», концентрирующейся вокруг статей Койре «Гегель в Йене» и «Философская эволюция М. Хайдеггера», что открывают перед нами поле некоторой единой хайдеггеровской и гус-серлиански-райноховской феноменологии.
Философский путь А. Койре был избран им самим еще в подростковом возрасте, когда он, сочувствующий политике партии социалистов-революционеров, оказался в тюрьме из-за неудачного покушения на губернатора Ростова. В непродолжительный период своего тюремного заточения Койре ознакомился с содержанием двух томов «Логических исследований» Э. Гуссерля, после чего, проведя еще некоторый промежуток времени в России, отправился сначала в Париж, а затем в Германию, в Геттинген, где в то время свой курс лекций читал Гуссерль. В Геттингене Койре удалось познакомиться и обрасти тесными дружескими контактами как с самим Гуссерлем (они будут поддерживать контакт друг с другом до смерти мэтра феноменологии), так и с его учениками: математиками А. Райнахом, Д. Гильбертом, Г. Минковским, основателями феноменологического сообщества в Геттингене. Основным интересом Койре в ту пору было изучение математических парадоксов, что во многом стало решающим фактором в сближении с Райнахом и Гуссерлем. В 1911 г. А. Койре хотел избрать Э. Гуссерля своим научным руководителем для исследовательской работы, посвященной схоластическим инсолюблиям (логическим парадоксам) и парадоксам теории множеств. Гуссерль же, в свою очередь, отказал А. Койре, ссылаясь на невозможность отклониться от избранного курса (построения феноменологии как строгой науки), что в противном случае побуждало бы его задаться вопросом о том, насколько далеко простираются границы феноменологического метода.
Райнах предполагал, что реакция Гуссерля спровоцирована его личной неприязнью к Кой-ре, что, по мнению большинства исследователей [Курилович И.С., 2019, с. 97; Schuhmann K., 1987], является несколько неоправданным упреком в сторону человека, который поддерживал коммуникацию с Койре до конца своих дней. Ко всему прочему, о своем отношении к Гуссерлю и о его позитивном влиянии на собственные взгляды Койре сообщал в письме от 10 декабря 1953 г.: «Я испытал глубокое влияние Гуссерля. Вероятно, это он, человек, не очень хорошо знающий историю, научил меня позитивному подходу к истории, интересу к греческому объективизму и средневековой мысли, к интуитивному содержанию кажущейся чисто концептуальной диалектики, к историческому — и идеальному — конституированию систем онтологии. Я унаследовал от него платонистский реализм, от которого он отказался, антипсихологизм и антирелятивизм» [Шпигельберг Г., 2002, с. 242].
Как справедливо замечает Курилович, ссылаясь на Шумана [Курилович И.С., 2019, с. 98], вместо Гуссерля в приведенном письме куда более оправданно будет поставить имя Райна-ха, сформировавшего у Койре как взгляд на историю философии, так и на платонический реализм в области математики.
Действительно, предположение о первоочередной значимости влияния Райнаха на ум Койре по сравнению с влиянием Гуссерля может быть оправдано посредством анализа райнаховского представления о феноменологии. В докладе 1914 г. «О феноменологии» с первых же строк мы встречаемся с позицией, в которой отводится первое место не столько феноменологии как своеобразному продолжению воспетого еще немецким идеализмом идеала наукоучения (Wissenschaftslehre), сколько феноменологии как специальной методологии, применение инструментария которой функционально оправдано в контексте различных дисциплин (сам Райнах, математик по образованию, будет говорить о соответствующей области интересов): «В случае феноменологии речь идет не о системе философских положений и истин — не о системе в которую должны были бы верить все, кто называет себя феноменологами, и которую я мог бы Вам здесь доказать, — но речь идет о методе философствования, который был востребован самими философскими проблемами и который сильно отличается от того, как мы осматриваемся и ориентируемся в жизни, и который еще в большей степени отличается от того, как мы работаем и должны работать в большинстве наук» [Райнах А., 2006, с. 355].
Основной акцент в своем докладе Райнах делает на том, чтобы отказаться от утилитарного алгоритмического взаимодействия с объектами (прежде всего среди математиков), при котором все кажется несколько самоочевидным, т. к. структура взаимоотношений с объектами объясняется средствами и предметной областью той дисциплины, к которым эти объекты прилегают. Иначе говоря, Райнах вслед за Гуссерлем выступает в своем докладе против усредненного и индифферентного понимания мира естественной установки. Мы взаимодействуем с объектами посредством уже имеющегося у нас методологического аппарата, но «…от их сущности мы отстоим бесконечно далеко — и если мы достаточно честны, чтобы не успокаиваться на дефинициях, которые ни на йоту не приближают нас к самой вещи, — то мы должны сказать то же, что и бл. Августин говорил о времени: “Пока ты меня не спрашиваешь, что это, я думаю, что знаю. Но если ты спросишь меня, то я больше не знаю”» [Райнах А., 2006, с. 357].
Объектами критики для Райнаха, как и для Гуссерля в его статье «Феноменология как строгая наука», выступают психологизм, историзм и натурализм, но существенным отличием позиции Райнаха от гуссерлевской в докладе 1914 г. является тот факт, что Райнах хочет обозначить преимущества феноменологического метода и, уже как следствие, экстраполиро- вать его на остальные сферы человеческого знания, в том числе и на историю [Мотрошило-ва Н.В., 2003, с. 63–66]: «Сущностное усмотрение требуется и в других дисциплинах. Не только сущность того, что может реализовываться сколь угодно часто, но и сущность того, что по своей природе является единственным и неповторимым, требует прояснения и анализа. Мы видим, какие усилия прикладывает историк не только для того, чтобы пролить свет на неизвестное, но и для того, чтобы сделать нам ближе известное, привести его, в соответствии с его природой, к адекватному созерцанию. Здесь идет речь о других целях и других методах. Но и здесь мы видим значительные трудности и опасности уклонения и конструирования. Мы видим, как все время говорят о развитии, но при этом оставляют без внимания вопрос о том, что же здесь собственно развивается» [Райнах А., 2006, с. 359–360].
Мысль о необходимости смотреть на вещи в модусе их кажимости-самих-по-себе станет руководящим принципом для понимания истории науки и истории идей в творчестве Койре, который во многих своих трудах откажется от того, чтобы слепо принимать уже известную совокупность фактов и сведений в качестве законченной системы (так, например, Койре отмежевывается от представления о том, что нововременная революция — банальное следствие отказа от созерцательной жизни, что проповедуют многие историки и ученые, напрочь исключая из контекста алхимическое наследие [Койре А., 1985, c. 128–129]). Подтверждение этому мы можем найти в том же самом докладе Райнаха и его критическом взгляде на компаративистский подход: «Насколько характерны здесь частые сопоставления Гете и Шиллера, Келлера и Мейера и т.д., — характерны для безнадежной попытки определить нечто через то, чем оно не является» [Райнах А., 2006, с. 360]. Таким образом, Райнах определяет феномен (в гуссерлевском смысле) не через явление (в кантовском смысле), а через способ его данности в нашем горизонте опыта, т.е. оставляет так, как он был впервые нами открыт.
Разговор о понимании истории А. Койре нельзя себе представить без Э. Мейерсона, которого он почитал в качестве собственного учителя, выражая ему признательность за академические наставления и близкое общение
[Koyré A, 1961, p. 115]. Во многом именно через связь Райнаха и Мейерсона стоит интерпретировать концепты «философских рамок», «ментальных установок» и «смежных понятий» в историко-философском взгляде Койре на науку. Сотрудничество между Койре и Мейерсоном началось в 1922 г., когда Койре был представлен своему будущему учителю Э. Жильсоном. В одной из своих статей, опубликованных в эмигрантском журнале «Звено» под заголовком «Трагедия разума. Философия Эмиля Мейерсона», Койре тезисно описывает ядро системы Мейерсона: «Наука есть не что иное, как объяснение реальности, т.е. поиск причин, а не законов; разум в процессе научного “объяснения” стремится свести многообразие к единому, изменение к постоянству, “иное” к тождественному» [Койре А., 1926, с. 3]. Трагедия разума, как полагает Мейерсон, заключается в том, что он «не понимая различия и бытия, стремится свести их к тождеству и небытию. Но тождества и небытия он мыслить не может. Его удача была бы для него самоубийством» [Перекрестие культур…, 2021, с. 179]. Помимо этого, Койре согласен в том, что изучение науки невозможно осуществлять интроспективно или психологически, как это представлял себе Дильтей [Дильтей В., 2018]. Исторические предпосылки анализа позволяют философу и историку науки понять, как формы рационального мышления воплощаются в различные исторические периоды: «Понять науку в ее истории, увидеть основные приемы разума, творящего науку в борьбе с иррациональным “непонятным” материалом опыта — вот трудная, но благородная задача эпистемолога» [Койре А., 1926, с. 3].
В отличие от Мейерсона, Койре допускал одновременно и изменчивость, и постоянство ментальных структур ученого и философа, что наиболее отчетливо выражается в его подходе к пониманию ошибок в рамках историконаучных парадигм. Для Мейерсона ошибка в истории науки как таковая не имеет особого веса, т.к. значим лишь тот факт, что теория, будь она ложной или истинной, носит рациональный характер, что во многом может быть обосновано самой установкой Мейерсона в отношении деятельности ученых.
В случае с Койре ошибка выражает не только функционал человеческого мышления, но и контекстуально очерчивает те культурносоциальные противоречия, с которыми мог столкнуться деятель науки в ходе построения собственной системы, пытаясь отыскать наиболее удачные средства выражения собственных мыслей.
Анализ ментальных структур Мейерсона оставил свой след в концепции «философских рамком», репрезентирующих собою априорные законы мышления какого-либо философа или ученого. Философские рамки А. Койре сочетали в себе аспект анализа сущностей в том виде, в каком его представил Райнах в уже упомянутом нами докладе: «Никакого случайного Так-бытия, но лишь необходимое Так-быть-должно (So-Sein-Müssen) и, в соответствии с сущностью, Иначе-быть-не-может (Nicht-Anders-Sein-Können)» [Райнах А., 2006, с. 368]. Это положение феноменологического анализа Райнаха позволило Койре развить свой подход в истории науки, в котором можно говорить о некоторых универсальных принципах мышления человека, помещая социально-культурные детерминанты на второй план. Социальнокультурные детерминанты, как убедительно показывает в своей диссертации Д.Н. Дроздова [Дроздова Д.Н., 2012, с. 60], находят свое отражение в понятии «ментальной установки» и «смежных понятий», которые являются синонимичными терминами для тезауруса Койре. Оба понятия устремлены к тому, чтобы показать материальность господствующих в отдельно взятую историческую эпоху положений, с которыми были вынуждены считаться люди духовной сферы: «Ментальная установка (attitude mentale) людей Средневековья целиком и полностью отлична от нашей, и мы рискуем впасть в заблуждение относительно их идей, их намерений, их теорий, если подменяем их» [Дроздова Д.Н., 2012, с. 68]
Эту доктрину Койре применяет и относительно Гегеля, утверждая, что и он, несмотря на свой спекулятивно-мистический гений, был как никогда подвержен духу эпохи, Zeitgeist: «Несомненно, влияние среды, Zeitgeist, играет свою роль. Но все же, влияния, которым подвергается человек, — следовательно, и мышление Гегеля, — лишь заставляет раскрыть то, что уже есть <…> что было в самой основе — “в себе” — личности и мышлении Гегеля» [Koyré A, 1971, p. 211–212] (цит. по [Курило-вич И.С., с. 107]).
Реализация своих мыслей, т.е. содержание рамки, которая предопределена ментальной установкой, осуществляется каждым мыслителем самостоятельно, а не парадигмально, как полагал Кун. Этот тезис Койре можно развернуть на его принципе «гегельянизации Беме» или наоборот, «бемизации Гегеля». По мнению А. Койре, Гегель — наследник мистической традиции, простирающейся вглубь Средних веков, до М. Экхарта и И. Таулера. Это концептуальное ядро гегелевской доктрины отображено и в его «Феноменологии», и в «Науке логики», а средством его экспликации оказался уже давно существующий в немецкоязычной философской среде диалектический метод.
Таким образом, можно сказать, что историзм Койре — это эклектизм Мейерсона, выявившего априорные принципы мышления каждого мыслителя, и Райнаха, открывшего для Койре возможность адаптации феноменологического метода к поприщу истории. Важно понимать, что синтетическим элементом между обоими подходами была сама мысль Койре, с его концептом «ментальных установок» и своеобразным пониманием традиции религиозной мысли, особенно немецкой, которая у Койре приобретает однонаправленное развитие спекулятивной теологии от Беме, Парацельса, Швенкфельда и Кузанского к Фихте, Шеллингу и Гегелю, что, конечно, лишний раз подчеркивает оригинальность Койре как мыслителя.
Рецепция трактовки времени Хайдеггера и Бергсона в гегельянских тезисах Койре
После выхода в свет книги Ж. Валя «Несчастье сознания» в 1930 г. Койре выпустил на только что опубликованный труд рецензию, где подверг критике ряд основных положений Ж. Валя. Во-первых, Койре был принципиально не согласен с тем, что основу философии Гегеля стоит выводить из его ранних сочинений, потому что, утверждал Койре, к тому времени Гегель еще не смог придать своему учению систематический характер (этого он сможет добиться только в Йенский период), и, что более важно, Койре не признает за Гегелем избыточной религиозности, аргументируя свою позицию тем, что юношеские сочинения Гегеля есть не что иное, как его исторические рассуждения, в лучшем случае способные позволить интерпретатору понять генеалогию гегелевской мыс- ли (схожую позицию в интерпретации биографии Гегеля впоследствии будет занимать Ж. Д`Онт [Д`Онт Ж., 2012]). Во-вторых, Ж. Валь называет диалектику Гегеля неудачной, «бесплодной», попыткой заточить конкретное в абстрактном, в мысли, на что Койре сатирически возражает: «Разве такая неудача не характерна для каждого философа?» [Wahl J., 2017, p. 90].
Положения, обращенные против Ж. Валя, Койре развил в своем докладе «Гегель в Йене». Предшествующие периоды творчества Гегеля (бернский (1793–1796) и франкфуртский (1797– 1800)) А. Койре рассматривает в качестве полезных биографических сведений о формировании Гегеля как мыслителя, но идеи, изложенные в сочинениях того времени, нельзя назвать первоочередными для доктрины Гегеля. По большей мере, полагает Койре, отсчет того Гегеля, который известен философской общественности, стоит вести с 1801 г., с момента, когда Гегель начал осознавать необходимость систематизировать собственную философскую концепцию. Стоит заметить, что, как и Ж. Валь, Койре прегрешает герменевтической строгостью в своей интерпретации, исключая из перечня работ, заслуживающих внимания, например, «Философию природы», что окажет серьезное влияние на интерпретацию Гегеля А. Кожева, который, рефлексируя над тезисами Койре, вслед за своим коллегой исключил философию природы Гегеля из основного корпуса сочинений мыслителей, аргументируя это исключительно антропологическими изысканиями гегелевских штудий: «Природа абстрактна, поскольку она абстрагирована от Духа. Только синтез, т.е. Человек, в котором полностью осуществилась и раскрылась в качестве таковой сущность Абсолюта, конкретен» [Кожев А., 2003, с. 41–42].
Представление о «Науке Логики» как фундаментальном труде Гегеля, возвышающемся над всеми остальными рукописями, в том числе и над «Феноменологией духа», оказало серьезное влияние на интерпретации времени, истории и антропологии немецкого философа со стороны А. Койре.
Койре, анализируя язык гегелевской философии, пытается совместить с ним собственное представление о философских рамках человека и ментальной установки эпохи. Язык творче- ства Гегеля имеет свои исторические предпосылки в жизни отдельно взятого народа и принадлежит духу немецкой нации. Понятие является универсальной формой мышления бытия-для-себя — это философская рамка в доктрине Койре. Несмотря на влияние ментальной установки эпохи, т.е. средств реализации бытия-в-себе в его становлении бытием-для-себя, Койре выделяет два вида того, что можно было бы назвать «духом в истории»: история как реализация бытия-в-себе человечества, т.е. как некоторый единый процесс, и история как реализация бытия-в-себе отдельно взятым индивидом, т.е. самореализация.
Индивидуальное становление разворачивается в человеке как родовом существе, что выражается в реализации собственной интуиции мыслителя имеющимися социальными средствами. Реализация духа в истории, врученного самому себе в понятии, осуществляется в национальном языке, из чего делается вывод, что и сам дух разворачивается в истории народа.
Таким образом, можно заметить, что Койре ставит язык и время в зависимость друг от друга. По его мнению, язык и время доступны только для человека, и их можно открыть только в антропологии и истории. Кажется, что прямым источником этих мыслей Койре является хайдеггеровское понимание присутствия как того, что бытийствует во времени и обладает логосом. В случае с Гегелем источником определения времени является конечный итог становления — Абсолют, будущее, сквозь призму которого в мире все и разворачивается. У Хайдеггера время Dasein`а определяется через трансцендентальную структуру, синтезирующую в себе момент прошлого–настоящего– будущего, именуемую самим основателем фундаментальной онтологии «четвертым измерением» [Хайдеггер М., 1993, с. 400]. Единый темпоральный пласт хайдеггеровского присутствия задается через то, что присутствие не есть, но оно имеет место как нечто, что эк-зистирует. Вслед за этим Койре утверждает, что «гегелевское время является прежде всего человеческим временем, временем человека, того странного существа, которое “есть то, чем оно не является, и не есть то, чем оно является”», т.е. того, что постоянно находится в становлении, отрицая момент «теперь» в надежде на самоопределение из (своего) будущего
[Руткевич А.М., 2009, с. 472]. В «Философской эволюции М. Хайдеггера», тексте, вышедшем значительно позже доклада о йенском периоде творчества Гегеля, Койре в одном из примечаний дополняет свою ранее артикулированную мысль: «Примат возможного подразумевает примат будущего по отношению к другим “экстазам” (измерениям) времени. Мы живем и действуем, исходя из будущего. В этой характеристике, как и в других, например в характеристике Dasein как бытия, которое не есть то, что оно есть, и есть то, что оно не есть, М. Хайдеггер сходится с Гегелем — кажется, незамеченный или, по крайней мере, нераскрытый факт» [Койре А., 1999, с. 119].
Человеческое существо на этапе своего развития прекращает существовать тогда, когда он уже буквально «стало», «свершилось» т.е. тогда, когда человек стал будущим. Именно поэтому Койре утверждает, что человек Гегеля — «фаустовский человек». Если развитие человека остановилось, перестав определяться будущим, и дается как результат, т.е. как свершившееся, то оно помещается в прошлое, уже переставая быть временем как таковым. Оно приобретает пространственные характеристики наличности и окружающих вещей.
Койре настаивает на том, что диалектика времени Гегеля есть поэтапная феноменологическая дескрипция актов постижения мира во времени: «Гегелевский дух есть время, и человеческое время есть дух». (цит. по [Рутке-вич А.М., 2009, с. 473]
Основная проблема такой интерпретации заключается в следующем: если мы желаем говорить об истории в гегелевском смысле, то должны говорить о ней лишь в контексте ее законченности, потому что только в таком случае мы имеем некий итог становления. Сам Койре опасался делать такой вывод, утверждая, что время есть «наличное бытие самого Aufheben» (наличное в данном случае есть хайдеггеров-ское Dasein) [Курилович И.С., 2019, с. 122].
Заключение
Подводя итог всему сказанному, можно заметить, что Койре, разработав свою собственную теорию развития интеллектуального знания и идей в общем, испытал влияние Э. Мейерсона, что нашло отражение в его концепте «философской рамки», а также влияние А. Райнаха с его проектом «сущностного анализа» исторических событий. Проанализированная нами статья «Гегель в Йене» дает понять, насколько А. Койре был методологически близок веяниям своей эпохи (структура рассмотрения духа у Гегеля как Dasein Хайдеггера и объявление метода Гегеля феноменологическим в гуссерлев-ском смысле слова) в интерпретации философии истории Гегеля и его «Логики». Одновременно с этим анализ генеалогии гегельянских тезисов Койре позволяет иначе взглянуть на достижения исследователей французского неогегельянства в отечественной среде: один из тезисов монографии И. Куриловича «Французское неогегельянство» гласит, что среди сущностных черт, благодаря которым мы можем выделить «французское неогегельянство» в качестве единого историко-философского феномена (особый акцент на субъективности; ставка на иррациональные основания гегелевской мысли и пр.), мы можем найти и единую «феноменологию Гуссерля–Хайдеггера»; однако проведенный нами анализ говорит о специфическом понимании феноменологии А. Койре, отсылающем нас в первую очередь не к Гуссерлю, а к его ученику А. Райнаху, предложившего оригинальный способ адаптации феноменологического метода к исследованию исторических событий, фактов и повседневных ситуаций.
В таком случае необходимость изучения источников творчества А. Койре и тех, кого причисляют к «французским неогегельянцам», может быть оправдана историко-философскими изысканиями определения самобытных черт французского неогегельянства в качестве отдельного философского течения или школы, а также поиска истоков оригинальной интерпретации феноменологии и экзистенциальной аналитики во Франции, инспирированной наравне с Хайдеггером и Гуссерлем творчеством А. Бергсона, от которого в той или иной степени мыслители поколения «трех H» не смогли отказаться и впоследствии. Адаптация гуссер-левской феноменологии и фундаментальной онтологии М. Хайдеггера к творчеству Гегеля, предложенная Койре, позволила сформировать новый способ построения онтологических и антропологических систем, примером чему может послужить «Введение в чтение Гегеля» А. Кожева, а также «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартра, синтезирующих в себе главенству- ющую роль негативности в определении онтологических особенностей человеческого существования вместе с хайдеггеровской интерпретацией временности и феноменологией как методом дескриптивного анализа.