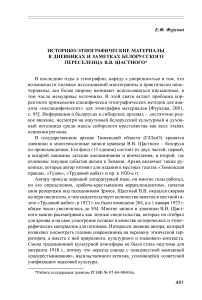Историко-этнографические материалы в дневниках и заметках белорусского переселенца В.В. Щастного
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521395
IDR: 14521395
Текст статьи Историко-этнографические материалы в дневниках и заметках белорусского переселенца В.В. Щастного
В по следние годы в этнографии, наряду с уверенностью в том, что возможности полевых исследований многогранны и практиче ски неисчерпаемы, все более широко начинают использоваться письменные, в том числе мемуарные источники. В этой связи встает проблема корректного применения специфически этнографических методов для анализа «неспецифических» для этнографии материалов [Фурсова, 2001, с. 95]. Информация о белорусах в сибирских архивах – достаточно редкое явление, несмотря на ощутимый белорусский культурный и духовный потенциал среди массы сибирского крестьянства как всех этапах освоения региона.
В государственном архиве Тюменской области (ГАТюО) хранятся дневники и многочисленные записи краеведа В.В. Щастного – белоруса по происхождению. Его фонд (13 единиц) состоит из двух частей: первой, в которой записаны детские воспоминания и впечатления, и второй, где изложены текущие события жизни в Тюмени. Архив включает также рукописи, которые автор готовил для издания в местных газетах «Тюменская правда», «Гудок», «Трудовой набат» и пр. в 1920-е гг.
Автору присущ хороший литературный язык, он многие годы работал, по его определению, «рабоче-крестьянским корреспондентом», печатая свои репортажи под псевдонимом Зрячек. Щастный В.В. оказался скорым на перо писателем, о чем свидетельствует количество заметок в местной газете «Трудовой набат»: в 1923 г. их было помещено 264, а к 1 января 1925 г. общее число увеличилось до 504. Многие записи и дневники В.В. Щаст-ного можно рассматривать как личные свидетельства, которые он отобрал для архива и на свое усмотрение оставил в качестве исторических и этнографических материалов для потомков. Интересен дневник автора, который позволяет посмотреть глазами современника на перемену этнической территории, а вместе с ней природного, культурного и языкового контекста. Смена традиционной культурной атмосферы не была столь ощутима для мигранта 1918 г., потому что переезд совпал с повсеместной кампанией «раскрестьянивания», насильственного атеизма, усилившейся «советской унификации» массовой культуры.
Во всех анкетах и в своем личном деле В.В. Щастный указывал национальность «белорус». Он родился в 1894 г. в Белоруссии, в д. Гиньки Норицкой волости Виленского уезда и губернии. «Отец мой Щастный Василий Фомич первое время занимался хлебопашеством и частично столярным ремеслом. Как самоучка, с 1904 г. работал на Бологое Седлецкой железной дороги, участок Полоце-Молодечно в службе пути, а затем в 1920 г. в Тюмени дорожным мастером службы пути. После увольнения с железной дороги по болезни во второй половине 1920 г. он работал инструктором столярного ремесла в школе водников. Умер в 1938 г.» [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 1, лл. 1 – 11].
С 1902 г. в восьми лет от роду, В.В. Щастный начал учиться в сельской школе. По воспоминаниям его можно составить представление об атмосфере дореволюцонной деревенской школы в Белоруссии, где на стенах были развешаны копии картин, отражающих события российской истории, например: «Ледовое побоище», «Александр в Орде», «Убиение царевича Дмитрия» и пр. Автору бросилась в глаза смена содержания картин школьной галереи; после революции 1917 г. появились: портрет В.И. Ленина, картины «Первая листовка» и «Расстрел рабочих царскими войсками 9 января 1905 г.», портреты К.А. Тимирязева, И.В. Мичурина и т.д.
В 1912 г. Щастный окончил двухклассное училище Министерства народного просвещения и начал работать ремонтным рабочим службы пути, а затем табельщиком-счетоводом у дорожного мастера станции Зябки Риго-Орловской железной дороги. В его личном деле сохранилось письмо-разрешение отца Василия Фомича Щастного: «Удостоверение. Я нижеподписавшийся сим удостоверяю, что предъявитель сего есть мой сын крестьянин Виленской губернии Виленского уезда Норецкой волости деревни Гинки Владимир Щастный мною добровольно отпущен в имение Городно Лидского уезда в Городненскую школу скотоводства и молочного хозяйства сроком на 2 года и еще 6 месяцев практики 16 декабря 1914 года. Родитель артельный староста Василий Щастный (подпись)» [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 1, л. 64].
Когда летом 1914 г. началась Империалистическая война, В.В. Щаст-ный был призван на фронт, но уже в 1915 г. уволен с военной службы ввиду болезни. К этому времени его мать эвакуировалась с фронтовой полосы в г. Тюмень, а отец остался на своем месте работы на станции Зябки, где и находился до занятия ее поляками. После 1916 г. В.В. Щастный приехал к родителям и работал снова на железной дороге на станциях Тюмень и Тура. Особо он подчеркивал в своей биографии тот факт, что в декабре 1919 г. он вступил в ряды РКП(б) [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 60 об.].
В сибирский период своей жизни молодой человек начал писать репортажи о текущих событиях российской глубинки, отражая борьбу новой идеологии с традиционными жизненными установками, основанными на православии. В репортаже 1920-х гг. под названием «Кусочек нового быта» отражен порыв атеистической молодежи, с энтузиазмом отвергавшей свои христианские имена: «В 8 ч. вечера в присутствии комсомольцев д. Мыс (…) представителей от шефа детдома окружкома РКСМ и детей от других домов, торжественное заседание объявляется открытым. Т. Фадеев делает открытый доклад о значении старых поповско-религиозных имен и новых революционных. Далее зачитывается список товарищей, пожелавших окончательно порвать с церковью. Дружными аплодисментами приветствуют оглашенных в списках товарищей и дают поручения за-вдетдомом и секретарю ячейки РКСМ ходатайствовать перед отделом ЗАГС о перемене их имен… После торжественного заседания ставится пьеса «Борьба за красный стяг», концерт, весь вечер проводится торжественно и оживленно » [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 78 об.].
Продолжение этой темы можно проследить по другим репортажам В.В. Щастного, например, «Красные октябрины». «Занятия заканчиваются. Сотрудники Окрисполкома и Окрмилиции собираются в большом зале для участия в торжественном заседании – октябринах. Уборщица при Окрисполкоме т. Концерова назвала своего новорожденного сына Владиленом и с этого же дня решила окончательно порвать с церковно-религиозным дурманом. Тов. Кирвис сделал доклад о значении церковных обрядов, каковые уже уходят в вечность и скоро останутся в области предания, как отжившие свой век » [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 79].
«Далее выступил с приветствием т. Астахов от Окрмилиции и т. Синельников от месткома, которые отметили в своих приветствиях разумное решение т. Концеровой: переход к новому быту, бросив все старое, ветхое и никому из сознательных людей не нужное религиозное отношение. Местком и административный отдел Окрмилиции преподнесли новорожденному подарок и дали обещание оказывать всестороннюю помощь матери в воспитании сын» [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 79 об.].
Тема борьбы с «религиозным дурманом» прослеживается и в записях дневника этого периода, где В.В. Щастный, видимо, о суждал свою мать за сочувствие церковникам и попам. В 1930 г. записано: « А вот в Москве как устроили антирелигиозный диспут с участием советских ученых, то оказалось, что рядовой свящ енник довел дело до того, что коммунисты совсем запарились. Это по душе матери» [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 8, л. 71].
В 1925 г. работая рабкором – репортером в газете «Трудовой набат» В.В. Щастный вел рубрику «Наши ответы и советы читателям газеты», в которой его ответы отражали широкий кругозор ведущего, умение доступно объяснить ситуацию. Любопытен, например, ответ читателю Шубину о смене народных праздников, отражающий неустойчивый период их формирования: « Церковные праздники крещение, благовещение и другие заменены следующими революционными праздниками: 2 мая – день труда; 5 июля – день освобождения Урала от Колчака; 8 ноября – второй день Октябрьской революции (постановление Окрисполкома № 46 от 2/IX, № 79 от 7/IV – 1925 г.)» [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 82].
Складывается впечатление о присущей «рабоче-крестьянскому» корреспонденту честности, даже излишней бескомпромиссности. « Мне никогда не забыть одной моей беседы с группой старичков-крестьян из Исетской волости. Эти старички рассказали мне о своей беде и несчастье в том, что они, бедняки, обложены продналогом как кулаки, а кулаки их деревни обложены как бедняки. Об этом я написал заметку в газету «Трудовой набат». Прошло некоторое время, и я в городе встретился со знакомыми старичками. Они были очень довольны. По газетной заметке было произведено переобложение и кулаки получили по заслугам » [ГОТюО. Ф. 2140, о. 4, № 2, л. 88 об.].
Как отмечал не раз в своих записях автор, подобные критические заметки о недостатках в работе предприятий, которые следовало устранить, не всегда нравились хозяйственникам. По этой причине, но под другим предлогом – под видом сокращения штатов В.В. Щастный был уволен с работы. Впоследствии ретивому корреспонденту пришлось много раз менять места работы из-за своего ершистого и прямого характера, работать по заданию губкома РКПб и в отделе национальных меньшинств (1920 г.), и в отделе статистики Тюменского Рупвода (1921 г.), и финагентом (1923 г.) и т.д.
Таким образом, «документы личного происхождения» В.В. Щастного освещают важный хронологический срез переломного момента борьбы с традиционными ценностями старой России, самое начало формирования бюрократического аппарата новой власти в Сибири. Из мемуарных текстов, дневниковых записей и профессиональных репортажей вырисовывается образ белоруса-партийца, участвовавшего в культурном строительстве нового общества, отвергавшего какие бы то ни было традиции предыдущих поколений. Рабоче-крестьянский корреспондент трудился на тюменской земле также самоотверженно, как если бы это происходило на его исторической родине. Именно переселенцы, не обжившиеся и не устроившиеся на новом месте, становились опорой для распространения пролетарской идеи социальной справедливости. Ее искренний приверженец В. Щастный впоследствии сам жестоко пострадал.