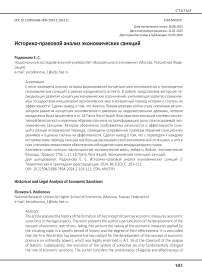Историко-правовой анализ экономических санкций
Автор: Родионова Е.С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (20), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу истории формирования концепции мер экономического принуждения (экономических санкций) в рамках юридического аспекта. В работе представлена авторская периодизация развития концепции экономических ограничений, учитывающая характер применяемых государством-инициатором экономических мер в конкретный период истории и степень их эффективности. Сделан вывод о том, что именно Первая мировая война стала ключевым катализатором развития концепции экономического давления на недружественные державы, которая юридически была закреплена в ст. 16 Пакта Лиги Наций. Впоследствии эволюция системы коллективной безопасности коренным образом повлияла на трансформацию роли, приписываемой экономическим санкциям. Автором обозначена проблематика легальности и эффективности санкций в разные исторические периоды, приведены современные примеры введения санкционных режимов и оценена степень их эффективности. Сделан вывод о том, что с переходом к каждому историческому периоду санкции всё больше раскрывали свой экономический потенциал, в итоге став ключевым механизмом обеспечения соблюдения норм международного права.
Санкции, односторонние экономические меры, эмбарго, бойкот, экономическая блокада, правило 1756 г, ст. 16 пакта лиги наций, экономический потенциал санкций
Короткий адрес: https://sciup.org/14130603
IDR: 14130603 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-2-103-111
Текст научной статьи Историко-правовой анализ экономических санкций
Древнеримский историк Корнелий Непот, живший в I в. до н. э., работая над биографией греческого военачальника Эпаминонда, писал: Si vis pacem, para bellum (хочешь мира, готовься к войне). Это латинское выражение, ставшее крылатым еще в эпоху античности, наиболее точно отражает природу экономических санкций с точки зрения историко-правового анализа. Государства с древних времен активно прибегали к мерам экономического принуждения как в ходе военных конфликтов, так и в качестве превентивной политической меры, потенциально способной удержать оппонента от проявления политической агрессии. Однако вопрос о легальности применения таких мер с точки зрения международного права довольно долго оставался нерешенным. К началу XXI в. санкции окончательно раскрыли свой экономический потенциал, став ключевым инструментом обеспечения соблюдения норм международного права.
Использование экономических санкций на протяжении всей мировой истории было неотъемлемым компонентом внешней политики большинства государств, полагающихся на экономические санкции не только с целью влияния на внешнюю политику оппонентов и сохранения национальной безопасности, но и для того, чтобы эффективно реагировать на внутренние политические потребности и внешнеэкономическое давление. Полагаем, что мировую историю развития и формирования концепции экономических ограничений (то есть санкций) можно условно разделить на четыре этапа: 1) 432 г. до н. э. — 1639 г. н. э.; 2) 1640–1913 гг.; 3) 1914–1945 гг.; 4) 1946 г. — настоящее время1.
Первый этап (432 г. до н. э. — 1639 г. н. э.)
В древности и в Европе Нового времени экономические санкции использовались для различных целей, но главным образом как второстепенные инструменты военной политики во время политических конфликтов. Так, например, Афины ввели экономические санкции в отношении греческих городов-государств, отказавшихся присоединиться к Делосскому союзу, возглавляемому афинянами, во время Пелопоннесской войны2. Самым известным нормативным документом этого времени является Мегарский декрет Перикла (известен также как «мегарская псефизма»), изданный в 432 г. до н. э. в ответ на похищение трех женщин — служанок возлюбленной Перикла Аспасии. Вместе с тем древнегреческие философы по-разному оценивали значение и вопрос о законности этого документа. Так, Фукидид уделяет декрету лишь незначительное внимание в «Истории Пелопоннесской войны», а Аристофан, напротив, в своей комедии «Ахарняне» отводит Мегарскому декрету главную роль в развязывании войны3, 4. Чуть позже, в 232–225 гг. до н. э., уже в Римской республике было введено торговое эмбарго против Галлии, в соответствии с которым любым лицам (в том числе не имевшим римского гражданства) запрещалось совершать с галлами сделки по покупке или продаже золота и серебра5.
Торговые эмбарго были обычной формой экономического давления в раннем Средневековье. Например, С. Станчев подчеркивает, что стратегический экспортный контроль, который запрещал экспорт вина, масла, оборонительного и наступательного оборудования, а также сырья, необходимого для его изготовления, был закреплен еще в Кодексе Юстиниана1. Во время религиозных войн за реформацию Европы в 1524–1697 гг. государства использовали торговые эмбарго и другие экономические ограничения для принуждения к соблюдению договорных обязательств в отношении защиты христианских меньшинств. Отдельно отметим, что испанский термин «эмбарго», которым большинство средневековых источников оперирует для обозначения понятия «санкции» в современном и привычном нам понимании, возник еще в XII в. в ходе Третьего Латеранского собора (1179 г.). Итогом настоящего собора являлось введение средиземноморских санкций: папа римский Александр III запретил торговлю с мусульманами, еретиками и иными «прокаженными ересями». Это решение впоследствии подкреплялось следующими папами, влияя на торговые маршруты в Средиземном море. Примечательно, что ключевую роль в обосновании легальности применения экономических санкций в средневековой Европе сыграло именно каноническое право.
По мере того как экономическое развитие позволяло европейским державам вкладывать всё большую часть своих ресурсов для достижения военных целей, экономически сильный противник старался прекратить все отношения с соперником, наращивая свой экономический потенциал для достижения своей скорейшей победы. Английское право скачкообразно продвигалось к признанию и применению этой логики. Проблески можно найти еще во времена правления Эдуарда II, издавшего ряд декретов, на основании которых были арестованы трое купцов, торговавших с Шотландией, тогда находившейся в состоянии войны с Англией2.
История Древней Руси знает несколько примеров одностороннего экономического давления на раздробленные русские города, а также жителей-купцов для достижения ряда внешнеполитических целей ее государствами-соседями. В частности, в 1137 г., как свидетельствуют дошедшие до нас берестяные грамоты, германские города-государства ввели торговое эмбарго в отношении Новгородской республики, а также запретили торговлю с новгородскими купцами. В XIII в. Ганзейский союз, стремясь укрепить свое положение в Прибалтике, периодически налагал ряд экономических ограничений во взаимоотношениях с Великим Новгородом3. В XIV–XVI вв. уже Ливонская республика во времена «голодных лет» на северо-западных русских землях не раз вводила торговое эмбарго на поставку хлеба. Так, в 1520-х гг. с целью принуждения Василия III к уступкам и заключению договора на выгодных для Ливонии условиях ливонские гофмейстеры запрещали своим купцам торговать с русскими купцами рожью.
Отметим, что впервые в европейской политике понятие «антироссийские санкции» появилось еще в XVI в. (средневековые источники именуют такие санкции «меры против Московского царства»). Так, в 1570 г. Испания, опасаясь экономического усиления и возможности получения Москвой выхода к Балтике и Средиземноморью, инициировала пакет торговых ограничений, запрещающий покупку европейскими купцами московских товаров, экспорт которых приносил русским землям наиболее весомую долю доходов (лен, пенька и меха), и продажу товаров, необходимых для укрепления военнопромышленной мощи Московии. В качестве превентивных мер герцог Ф. Альба, выступая с речью на Франкфуртском депутационстаге, предлагал перестать поставлять Москве металл, артиллерию, а также запретить мастерам-специалистам наниматься туда на службу4.
Второй этап (1640–1913 гг.)
Иной смысл санкции обрели с началом Нового времени и практическим осмыслением понятия национального государства, важной целевой и ценностной установкой которого выступают защита своего рынка и торговая экспансия. Цель национального государства — мобилизация мощи своей бюрократии и рациональных инструментов контроля над рынком для начала санкционной войны1. Источники Нового времени свидетельствуют о том, что до начала XX в. государства полагались на экономическое принуждение преимущественно во время военных конфликтов, так как ограничительные экономические меры были направлены прежде всего на подрыв экономической мощи воюющего государства. В частности, морские блокады были частым явлением в конце XVI в. и в течение XVII в., однако, как отмечает М. Докси, лишь наполеоновские войны раскрыли весь потенциал континентальных блокад2. Так, наиболее известным документом является берлинский декрет Наполеона I, запрещающий в 1806–1814 гг. иметь торговые, почтовые и прочие отношения с Великобританией. К континентальной блокаде должны были присоединиться все страны, находившиеся под властью Франции, зависимые от нее или союзные ей, в том числе и Российская империя.
Бойкоты представляют собой еще одну форму экономических и торговых ограничений, налагаемых по политическим мотивам. Этот термин был придуман в 1880 г. для описания акта социального остракизма, осуществляемого землевладельцами против капитана Ч. Бойкота, который выступал в качестве сборщика арендной платы для лорда Эрна на ирландских землях3. Однако М. Докси отмечает, что, хотя термин «бойкот» датируется только 1880-ми гг., практика отказа покупать и/или продавать товары иностранным контрагентам, а также иметь коммерческие отношения с другими политическими образованиями была хорошо известна и в прежние времена4. Одним из самых известных примеров является бойкот США британских товаров, навязанный для выражения несогласия с правилами колониальной администрации (например, акт Бостонского чаепития 1773 г.).
В XVIII–XIX вв. во время военных конфликтов запрет на торговлю с вражескими государствами являлся обычной практикой, однако такие запреты не ограничивали права нейтральных государств заниматься торговлей с воюющими сторонами. Чтобы принести серьезные экономические лишения сопернику и его колониям, государства ввели ограничения на торговлю между воюющим государством и нейтральными государствами. Во время Семилетней войны в 1756–1763 гг. английские суды в одностороннем порядке установили, что нейтральные государства не могут извлекать выгоду из торговли в военное время, если аналогичная торговая практика не существовала в мирное время (такая практика вошла в историю как «Правило 1756 г.»). До этого момента каждая европейская держава сохраняла исключительное право на торговлю со своими колониями. Во время Семилетней войны английский флот вытеснил французскую торговлю с моря, практически изолировав Францию от ее колоний. Франция пыталась избежать этого, предоставив голландцам право колониальной торговли, но англичане, используя Правило 1756 г., заявили, что нейтральные державы во время войны не могут заниматься торговлей, которая была им запрещена в мирное время, и приступили к захвату голландских кораблей, курсирующих между Францией и ее колониями, на том юридическом основании, что они де-факто являлись французскими кораблями согласно Правилу 1756 г.
Пытаясь обойти применение Правила 1756 г., суда, принадлежащие нейтральным государствам, совершали остановку в промежуточном порту, а затем утверждали, что это были два отдельных и законных рейса. Однако с началом Семилетней войны английские суды в своих решениях постепенно заложили основу для применения односторонних ограничительных мер, полагаясь прежде всего на доктрину непрерывного плавания. Как утверждает Г. Бриггс, ее природа была схожа с международным принципом, а суть заключалась в том, что всякий раз, когда промежуточный порт был использован обманным путем для торговли, она a priori признавалась незаконной с точки зрения международного права5. В последующем настоящая доктрина широко использовалась во время крупных военных конфликтов XIX в., в частности, во время Гражданской войны в США в 1861–1865 гг. Таким образом, Правило 1756 г., разработанное английской судебной практикой, стало основой для развития односторонних торговых и морских ограничений в современном понимании1.
Третий этап (1914–1945 гг.)
Первая мировая война стала ключевым катализатором развития концепции экономического давления на недружественные державы с помощью применения ограничительных мер к лицам, тесно связанным с такими государствами. Начало войны вызвало дебаты о роли международного права и правовых средствах, используемых для содействия мирному сосуществованию государств, и уже в 1914 г. политические элиты в США заложили основы дебатов о трансформации международного права и его институ-тов2. Президент В. Вильсон искренне считал, что экономическое давление, оформленное надлежащим юридическим образом, является жизнеспособной альтернативой применению военной силы. Как пророк экономического принуждения, В. Вильсон предположил, что «экономический бойкот — это то, что легально заменяет войну»3. Он описал экономические санкции как «мирное, молчаливое, смертельное средство правовой защиты» и, предвосхищая их эффективность, назвал их «рукой на горле нападающей державы»4.
Д. Миллер, американский адвокат, активно участвующий в разработке Пакта Лиги Наций, при обсуждении ранних проектов пакта подчеркнул вклад британской юридической интеллигенции в его разра-ботку5. Он высоко оценил проект, подготовленный Комитетом лорда Филимора, который впервые в международной практике прямо предусматривал, что, если какое-либо государство нарушает мир, другие государства должны либо предоставить военную помощь, либо в качестве альтернативы ввести финансовые и торговые ограничения для лиц такого государства. Дебаты вокруг обсуждения текста Пакта Лиги Наций и роли, приписываемой экономическим санкциям, выявили разнообразие противоположных взглядов. Хотя дебаты были основаны на предположении о том, что основным средством для принуждения соблюдения норм международного права должны быть экономические меры, а вооруженные механизмы следует использовать только в качестве вторичного средства, среди европейской политической элиты существовало решительное противодействие принудительным экономическим мерам, главным образом из-за их негативного воздействия на гражданское население6.
Идея опоры на экономическое принуждение для содействия мирному сосуществованию стран отражена в ст. 16 Пакта Лиги Наций, которая предусматривала для членов Лиги право налагать экономические санкции7. Тем не менее это право не было лишено ограничений: только член Лиги мог подвергаться таким мерам и только в том случае, если данный член прибегнет к военным механизмам. Резолюции по толкованию, принятые в 1921 г., еще больше сузили случаи, когда можно было ссылаться на данную статью. Кроме того, необходимые юридические процедурные шаги, предшествующие введению таких принудительных экономических мер, оставались неопределенными. Таким образом, несмотря на то, что межвоенный период де-факто был свидетелем многочисленных случаев конфронтации между членами Лиги, на ст. 16 пакта ссылались не так часто, как можно было бы ожидать. Одним из наиболее ярких примеров являлись санкции против Италии и итальянских политиков после того, как Италия вторглась в Эфиопию в нарушение своих обязательств по пакту в 1935 г.
Однако даже после того, как пакт с юридической точки зрения признал законность экономических санкций, их правовая природа осталась неурегулированной. В частности, нерешенным оставался вопрос о том, каковы юридические последствия применения экономических санкций в части соблюдения прав и свобод человека. В статье, опубликованной в 1931 г. А. Бертрамом, обозначен следующий дискуссионный вопрос: являются экономические санкции инструментом войны или инструментом мирного давления?1 По мнению А. Бертрама, даже у составителей пакта были разные мнения по этому вопросу: президент В. Вильсон был убежден, что экономические санкции — это «нечто более грандиозное, чем война», а лорд Р. Сесил утверждал, что «санкции — традиционный пример военного давления» и жесткой силы2.
Четвертый этап (1946 г. — настоящее время)
Период между 1945 и 1990 гг. характеризовался распространением практики эмбарго и экспортного контроля, введенными западными государствами против стран советского блока и наоборот. Санкции США против Доминиканской Республики (1960–1962 гг.) и Кубы (с 1960 г.) являются классическим примером экономического противостояния в эпоху холодной войны. Окончание холодной войны совпало или, как утверждают некоторые ученые3, спровоцировало явление, известное в мировой истории как «десятилетие санкций». Настоящий термин означает более широкое применение экономических санкций, которое сопровождалось расширением целей их использования. С начала войны в Персидском заливе (1990–1991 гг.) наблюдается существенный рост количества вводимых односторонних санкций. Эту тенденцию можно объяснить нарушением баланса сил: США с момента распада СССР, будучи мировым гегемоном в 1990-х гг., не опасались противодействия иных держав, что в корне отличалось от биполярной системы, существовавшей во время холодной войны.
После того как легитимность всеобъемлющих экономических санкций была подорвана, на горизонте появилась концепция «умных», или «целевых», санкций, то есть ограничений, направленных против отдельных лиц, групп или организаций. Теоретические основы для этой концепции заложил норвежский ученый Й. Галтунг в 1967 г., писавший следующее: «Тем не менее давайте на мгновение представим, что международное сообщество было структурировано таким образом, что санкции могут быть направлены на ответственных лиц»4. Умные, или целенаправленные, санкции отличаются от всеобъемлющих санкций в двух аспектах: во-первых, они наказывают политические или экономические элиты, а во-вторых, защищают уязвимые социальные группы5.
Сегодня, как справедливо замечает И. Богданова, продолжается явная тенденция увеличения применения односторонних экономических санкций6. В условиях децентрализованной системы международного публичного правоприменения односторонние меры, в том числе меры, направленные на частных лиц, играют ключевую роль. Кроме того, с точки зрения мир-системного подхода И. Валлерстайна с ускорением глобализационных процессов в XX–XXI вв. санкции стали излюбленным механизмом государств, находящихся в центре мир-системы (например, США, Великобритании, Франции)7. Ключевой тенденцией сегодня является усиление асимметричного характера санкций: мировые гегемоны получили возможность использовать односторонние санкции против широкого круга государств с минимальными исключениями, не опасаясь симметричного ответа и какой-либо юридической ответственности.
Отметим наиболее серьезные санкционные пакеты начала XXI в.1:
͵ Сирия (2004 г. — настоящее время). Декларируемой причиной ввода санкций стали подозрения в разработке оружия массового поражения, обвинения в помощи Ираку, а также в развязывании гражданской войны в 2011 г. Настоящие санкции не привели к смене политического режима, однако к концу 2014 г. вывоз химического оружия с территории Сирии был завершен.
͵ Ливан (2012 г. — настоящее время). Поводом для применения ограничительных мер стало посягательство на суверенитет соседнего государства (Сирии) и демократических институтов в государстве. Итогом стало объявление Правительством Ливана решения о нейтралитете в отношении Сирии.
͵ Либерия (2004–2015 гг.). Причиной ввода санкций стал военный конфликт в Либерии, а также обвинения президента в преступлениях против человечности. Антилиберийские санкции в итоге привели к смене политического курса, а выборы 2005 г. и 2011 г. были признаны мировым сообществом.
͵ Кот-д’Ивуар (2011 г. — настоящее время). Эскалация конфликта между правительством и оппозицией, а также отмена выборов в некоторых регионах страны явились предпосылкой для введения санкций. Итогом стало проведение новых выборов, избрание иного президента, а также изменение политического курса.
͵ Россия (2014 г. — настоящее время). Декларируемыми причинами ввода санкций являлись: эскалация конфликта на Украине, «крымский вопрос», нарушение Минских соглашений, подозрения в киберактивности России и вмешательстве в выборы президента в США в 2016 г. К смене политического курса антироссийские санкции не привели, однако замедлили экономический рост.
В заключение отметим, что, как свидетельствуют исторические источники, экономические санкции изначально были инструментом политических игр и лишь с возникновением национального государства, в эпоху Нового времени, они раскрыли свой экономический потенциал. Эволюция системы коллективной безопасности, сначала предпринятая через Пакт Лиги Наций, а затем через Устав ООН, коренным образом повлияла на трансформацию роли, приписываемой экономическим санкциям. С увеличением числа международно-правовых обязательств и при отсутствии централизованного институционального правоприменения меры экономического давления приобрели широкое распространение в качестве инструмента обеспечения соблюдения норм международного права.
Список литературы Историко-правовой анализ экономических санкций
- Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер с англ. П. М. Кудюкина; под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.
- Лаптева Е. В. Средневековые антироссийские санкции: к истории вопроса / Е. В. Лаптева // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6(55). С. 22-27. EDN: UJJIFX
- Морозова Н. М. Односторонние санкции во внешней политике США в начале XXI века / Н. М. Морозова, Н. М. Фомичева // Русская политология. 2017. № 2(3). С. 42-49. EDN: ZSVXVL
- Савельев А. И. Односторонние экономические санкции США: взгляд со стороны американского и российского права / А. И. Савельев // Закон. 2015. № 5. С. 108-131. EDN: TTYZKR
- Тимофеев И. Н. Экономические санкции как политическое понятие / И. Н. Тимофеев // Вестник МГИМО Университета. 2018. № 2(59). С. 26-42. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-2-59-26-42. EDN: XPUCKL
- Bertram A. (1931) The Economic Weapon as a Form of Peaceful Pressure. Transactions of the Grotius Society. Vol. 17, pp. 139-174.
- Bogdanova I. (2022) Unilateral Sanctions in International Law and the Enforcement of Human Rights. Brill-Nijhoff. 362 p. https://doi.org/10.1163/9789004507890
- Briggs H. (1926) The Doctrine of Continuous Voyage. Johns Hopkins Press. 226 p. https://doi.org/10.2307/1108065
- Chandler M. (1936) The Interpretation and Effect of Article 16 of the Covenant of the League of Nations. Dissertation University of Chicago. URL: https://search.proquest.com/openview/c6f65f117edd7a68f63c67f20ad95e11/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y (дата обращения: 12.07.2023).
- Doxey M. (1980) Economic Sanctions and International Enforcement. N. Y.: Palgrave Macmillan. 168 p. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04335-4
- Galtung J. (1967) On the Effects of International Economic Sanctions. World Politics. Vol. 19, no. 3, pp. 378-416. https://doi.org/10.2307/2009785
- Hufbauer G., Schott J., Elliott K., Oegg B. (2009) Economic Sanctions Reconsidered. Washington D. C.: Peterson Institute for International Economics. 248 p.
- Johnson L. (1974) The Business of War: Trading with the Enemy in English and Early American Law. Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 1187, no. 5, pp. 459-470.
- Jones L. (2015) Societies under Siege: Exploring How International Economic Sanctions (Do Not) Work. Oxford University Press. 225 p. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198749325.001.0001
- Miller D. (1928) The Drafting of the Covenant. N. Y.: G. P. Putnam’s Sons. 555 p.
- Stantchev S. (2012) The Medieval Origins of Embargo as a Policy Tool. History of Political Thought. Vol. 33, no. 3, pp. 373-399.
- Thucydides (2005) History of the Pelopennesian War. Penguin Books. 688 p.
- Tostensen A., Bull B. (2002) Are Smart Sanctions Feasible? World Politics. Vol. 54, no. 3, pp. 373-403. https://doi.org/10.1353/wp.2002.0010
- Wertheim S. (2011) The League That Wasn’t: American Designs for a Legalist-Sanctionist League of Nations and the Intellectual Origins of International Organization, 1914-1920. Diplomatic History. Vol. 35, no. 5, pp. 797-836. https://doi.org/10.1111/j.1467-7709.2011.00986.x
- Woodrow W., Hamilton F. (1923) Woodrow Wilson’s Case for the League of Nations. Princeton University Press. 273 p.