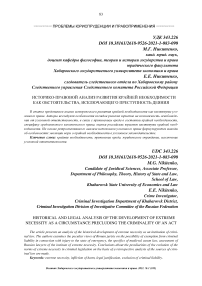Историко-правовой анализ развития крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния
Автор: Никитенко М.Г., Никитенко Е.Е.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции и правоприменения
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ исторического развития крайней необходимости как института уголовного права. Авторы исследуют особенности взглядов римских юристов на возможность освобождения от уголовной ответственности, в связи с причинением вреда в состоянии крайней необходимости, специфику средневекового канонического права, оценки российских юристов института крайней необходимости. На основе ретроспективного анализа источников уголовного права формулируются выводы об особенностях эволюции норм о крайней необходимости в уголовном законодательстве.
Крайняя необходимость, причинение вреда, юридическое оправдание, исключение уголовной ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/143175730
IDR: 143175730 | УДК: 343.226 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-1-083-090
Текст научной статьи Историко-правовой анализ развития крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния
Начиная с древнего периода истории человечества возникло понимание правонарушения и его крайне негативной формы в виде преступления. Однако в то же время в общественном сознании установилось понимание и того, что не все деяния, нарушающие волю государства и определённые законом как преступные, ведут к негативным последствиям. Многие из них в качестве основного результата имеют положительные цели (в том числе и спасение жизни человека), хотя внешне и содержат признаки преступления. Данное положение привело к постепенному осознанию юристами того факта, что при совершении подобных действий нельзя утверждать о наличии преступности в деянии лица. Так, например, ещё знаменитый российский юрист А.Ф. Кони утверждал: «Человеку присуще чувство самосохранения. Оно присуще ему и как существу нравственно-разумному, и как высшему созданию животного царства. Это чувство вложено природой в человека так глубоко, что не оставляет его почти никогда; человек стремится к самосохранению, с одной стороны, инстинктивно, а с другой – сознавая свое право на существование. В силу стремления к самосохранению человек старается избежать опасности и принимает все меры к её отвращению; он имеет на это право, которое должно быть рассматриваемо как прирожденное (Urrecht)» [1].
Необходимо отметить, что формирование института крайней необходимости осуществлялось в процессе длительного исторического развития человечества. Изменения в понимании института крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния, осуществлялись по мере исторического развития общества и государства. Смена социальных, экономических и политических условий жизни общества неизбежно накладывала свой отпечаток на формирование данного института.
Институт крайней необходимости имеет древнюю историю. Основой для его формирования стало обычное право [2]. Так, «одни обычаи регулировали отношения, в которые государство не считало нужным вмешиваться, предоставляя населению самому решать, соблюдать их или не соблюдать. Эти нормы так и действовали как нормы обычаев… Другие обычаи оказались вредными в новых условиях, и государство всеми силами стремилось их изжить» [3, с. 29].
Обычай как первый источник права в историческом контексте с течением времени вытесняет такой важный источник, как нормативно-правовой акт: «Нормативно-правовой акт как источник права обладал неоспоримыми преимуществами: он очень гибок – его нетрудно отменить или изменить» [3, с. 31]. Первое письменное упоминание о крайней необходимости содержится в древнеримском праве, из положений которого в ходе последовательной рецепции и был сформирован современный институт крайней необходимости: «Римское право – это не только собственно право крупнейшего государства античного мира. В Риме была создана абстрактная правовая форма, которая успешно регулировала любые частнособственнические отношения. Этим объясняется тот факт, что римское право пережило римскую государственность и приоб- рело новую жизнь в рецепции» [4]. Подобное объясняется уникальностью системы правовых норм, созданной римлянами в сфере защиты частной собственности. Однако необходимо отметить, что в Древнем Риме крайняя необходимость не рассматривалась римскими юристами как самостоятельный институт, а упоминалась лишь в связи с особенностями искового производства: «Уголовное право требует по своему содержанию не только близость к практическим нуждам, к чему римская юриспруденция чувствовала наибольшую склонность, но и известного уровня социологических и психологических понятий, чего не давала наука римлян».
Римское право определяло, что, претендуя на всю полноту предоставляемых прав, никто не вправе в то же время выходить за границы дозволенного правом. Но вместе с тем ими было установлено то, что в отдельных случаях закон допускает расширение границ осуществления субъективных прав. Причиной подобного могла стать угроза нарушения чужим интересам, третья сила, не зависящая от воли человека. Так, римские юристы допускали причинение вреда для защиты более ценного блага (например, в том случае, если гонимый бурей корабль наскочил на канаты якорей другого и матросы обрубили канаты, поскольку нельзя было выбраться никаким другим образом, как обрубив канаты). Римское право определяло, что корабельщик не нёс юридической ответственности за утрату груза, находившегося на борту его судна, также в случае кораблекрушения, либо данная ответственность могла быть существенно ниже, чем наносимый в состоянии край- ней необходимости вред. Несправедливой признавалась также, например, подача иска против хозяина постоялого двора или гостиницы в том случае, если имущество истца было уничтожено на территории постоялого двора или гостиницы непреодолимой силой (vismaior) [5, с. 387].
Ульпиан признавал, что в некоторых случаях правонарушение, в результате которого был причинён имущественный ущерб третьим лицам, может быть вызвано чувством страха, под которым он понимал беспокойство ума, вследствие наличной или будущей опасности [5, с. 219].
Ссылаясь на слова Лабеона, он утверждает, что страх «означает не какое угодно опасение, но боязнь перед более значительным злом» [5, с. 220].
Гай считал, что подобный страх должен иметь под собой реальное основание, распространяясь «на страх, который может испытать в силу достаточных оснований и в высокой степени твёрдый человек» [5, с. 220].
Значительное место среди факторов, влияющих на совершение человеком правонарушения, римские юристы, в том числе и Ульпиан, отводили также грубой силе: «Но под силой мы понимаем грубую силу и такую, которая осуществляется против добрых нравов, но не такую, которую магистрат осуществляет основательно, то есть разрешаемую правом и осуществляемую на основании прав, связанных с должностью, которую магистрат выполняет».
Юлий Павел определял, что под силой следует понимать натиск более значительной вещи, который не может быть отражен.
Таким образом, именно в древнеримском праве впервые были заложены правовые основы института крайней необходимости. Именно древнеримскими юристами было впервые определено, что физическое лицо не может нести ответственности в тех случаях, когда его действия по причинению вреда, вызваны страхом перед гораздо большими отрицательными последствиями, наносимыми третьей силой (как правило, природной стихией). Однако состояние крайней необходимости в римском праве рассматривалось только с позиции опасности нанесения имущественного вреда.
Второй исторический этап развития института крайней необходимости связан с существованием средневекового права, в том числе канонического права.
По нормам канонического права состоянием крайней необходимости объяснялись новые составы правонарушений, например совершение священником богослужения при отсутствии соответствующей ритуалу обстановки, употребление запрещённой католической церковью пищи, нарушение обета и т.д.
Особенностью развития института крайней необходимости в каноническом праве можно считать то, что одной из основных правоохраняемых целей стала рассматриваться цель по защите жизни лица, а лишь во вторую очередь – имущественных прав. Так, для защиты жизни средневековыми юристами признавалось правомерным жертвование всяким чужим благом (жизнью, здоровьем, имущественными правами). В состоянии крайней необходимости признавалось правомерным нарушение любых, принятых ранее на себя лицом, обязательств. Средневековое каноническое право так же, как и древнеримское, признавало, что причиной неправомерных действий лица, совершённых в состоянии крайней необходимости, является страх. В большинстве случаев виновное лицо не несло никакой ответственности. Однако необходимо отметить, что при наличии рецидива в действиях виновного лица, даже находящегося в состоянии крайней необходимости, ответственность всё же наступала.
Средневековая каноническая юриспруденция ввела в практику такие принципы, как «нужда закона не знает», «что не дозволено законом, делает дозволенным необходимость» и «необходимость не знает закона, и сама творит себе закон».
В XVII в. в Европе широкое распространение получают идеи гуманизма, признающие наличие естественных прав человека. Данный период в истории развития института крайней необходимости ознаменовался появлением работ Г. Гро-ция, С. Пуфендорфа, Х. Вольфа и других теоретиков. В их учениях формируется идея того, что в период кризиса, тяжёлой нужды возникает общее право на пользование имуществом, а действия, совершаемые при крайней необходимости, обоснованы слабостью человеческой натуры. При достижении крайних пределов давления различных факторов и отсутствии иного выхода из трудного положения, кроме нарушения права, возникает принцип «merumjusnatur» («чистого права природы»), который возрождает первоначальное естественное право.
Так, Гуго Гроций считал, что преступления, неизбежность которых вызвана природными стихиями, не должны подлежать наказанию. Крайняя необходимость же отнесена им к естественному праву человека на жизнь, основанном на инстинкте самосохранения [8].
Немецкий юрист Самуэль фон Пуфен-дорф в своих трудах определяет инстинкт самосохранения как один из самых важных инстинктов человека. Человек не в силах самостоятельно отказаться от стремления к самосохранению. Именно поэтому в том случае, если для спасения своей жизни человеку нужно лишить шанса на спасение жизни другого человека, он может это сделать и не нести никакой юридической ответственности за свой поступок [9].
Представитель германской школы уголовного права Х. Томазини считал, что, отклоняя опасность, человек повинуется влиянию природы. Вследствие этого, человек, который находится под страхом воздействия третьей силы, вправе нарушить благо другого лица. Он не несёт никакой ответственности, так как нужда не знает закона, а крайняя необходимость превращает долг человеколюбия в совершенное право [10].
Немецкий просветитель Христиан фон Вольф считал, что институт собственности введён не для собственника, а для того, чтобы все извлекали из него выгоду, и если нет возможности приобрести вещь, то её можно изъять у хозяина против его воли, даже если потребуется применить при этом насилие. Именно крайняя необходимость способствует развитию принудительного права в области имущественных отношений.
В XVII–XIX вв. проблемы крайней необходимости исследуются в контексте философии права. Такие философы, как Иоганн Готлиб Фихте, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Иммануил Кант, Людвиг Андреас фон Фейербах рассматривали крайнюю необходимость как основополагающий институт уголовного права.
Фихте считал, что, если существует угроза гибели двух людей при воздействии на них третьей силой, один из них, спасая свою жизнь, вправе лишить другого шансов на спасение. Действие, совершённое в состоянии крайней необходимости, не есть действие правомерное и бесправное. Это есть действие для права совсем безразличное [11].
Кант определял крайнюю необходимость как «принуждение без права». По его мнению, в положении крайней необходимости можно говорить лишь о дозволенном насилии по отношению к лицу, которое со своей стороны никакой силы против правонарушителя не применяло. Дозволенным действие является по субъективным, а не по объективным основаниям. Он считал, что для спасения своей жизни человеку разрешено лишать шансов на спасение другого человека, так как уголовный закон в данном случае не окажет на деятеля предположительного влияния. Угроза ещё неопределённым злом (смертной казнью) не в состоянии преодолеть страха перед реальным, грозящим в данным момент злом (например, природной стихией) [12].
Гегель признавал крайнюю необходимость правом нужды. По его мнению, например, если жизнь человека может быть спасена посредством хищения имущества, то в таком случае нельзя устанавливать юридическую ответственность за данное деяние. Запрет такого деяния означал бы полное бесправие личности. Важным в определении состояния крайней необходимости Гегель считал наличие реальности опасности.
Крайняя необходимость существует, по его мнению, даже в том случае, когда лицо спасает государственное благо, в том числе и за счёт гибели отдельного человека. Однако подобные действия должны находиться под жёстким контролем со стороны государства.
В XIX в. концепцию крайней необходимости рассматривали и другие учёные-юристы – Г. Филанджери, Р. Иеринг и т.д.
По мнению итальянского юриста Г. Фи-ланджери, ненаказуемость деяния при крайней необходимости является результатом отсутствия фактора вины в действиях правонарушителя. Он считал, что в состоянии крайней необходимости правонарушитель хотя и желает наступления последствий, но не имеет нравственной силы, чтобы преодолеть своё преступное влечение.
Немецкий правовед Р. Иеринг полагал, что борьба интересов – это основа для выработки правовых норм. Крайняя необходимость, по его мнению, является коллизией благ и интересов. Высшая миссия права состоит в регулировании коллизий жизни, а также содействии охране высших благ человека и общества. Функция права, по его мнению, должна заключаться не в ограничении воли, а в охране интересов. Таким образом, Р. Иеринг счи- тал, что при оценке крайней необходимости следует отдавать предпочтение высшему интересу, соответствующему историческому времени, особенностями страны и культуры.
Таким образом, необходимо отметить, что ранние европейские теории оценки крайней необходимости при обосновании правомерности действий правонарушителя были основаны на субъективном или объективном критерии. Субъективный критерий определял, что лицо в состоянии крайней необходимости находится в особом психическом состоянии. Объективный критерий рассматривал действия лица в состоянии крайней необходимости по принципу оценки соответствия зла, причинённого действиями правонарушителя угрожающему ему зла. Многие из данных положений содержатся и в современном праве.
В отличие от систем уголовного права европейских государств, в российском уголовном праве институт крайней необходимости первоначально был не столь значителен.
Формирование института крайней необходимости в отечественной системе уголовного права происходило в течение длительного исторического периода. Изучение отечественных источников уголовного права показывает, что в период с начала X в. по середину XVII в. не содержалось никаких сведений о крайней необходимости в отечественных нормативно-правовых актах. Это, возможно, объясняется тем, что в самом начале своего формирования отечественная правовая система имела много общего с римским и древнегерманским правом, где институт крайней необходимости не имел широкого развития и упоминался лишь в связи с нарушением прав собственника, а также исковым производством. Однако нельзя полностью отвергать возможность рассмотрения инцидентов применения лицами обстоятельств крайней необходимости в индивидуальном, частном порядке, например в ходе княжеских судов. Сложность исследования данного положения заключается в отсутствии значительного количества письменных источников – образцов княжеского и церковного судопроизводства, княжеских грамот.
Формирование института крайней необходимости в отечественном уголовном праве происходило длительный период.
Первое упоминание о крайней необходимости в российском уголовном праве содержится в ст. 283 Соборного уложения 1649 г., законодательная конструкция которой свидетельствовала о частном характере привлечения к ответственности лица в состоянии крайней необходимости. Закон охранял личность и частную собственность лица.
Артикулами Воинского устава Петра I (артикулы 123, 154, 180 и 195) впервые были выработаны общие критерии, определяющие правомерность причинения вреда охраняемым законом интересам.
Первой же попыткой систематизированного закрепления обстоятельств, исключающих преступность деяния в праве (в том числе крайней необходимости) стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Однако и оно не содержало чёткого определения критериев крайней необходимости.
Более совершенным в определении института крайней необходимости является Уголовное уложение 1903 года. По нему лицо освобождалось от уголовной ответственности вследствие того, что деяние было совершено в обстановке устранения смертельной опасности для жизни лица, действующего в состоянии крайней необходимости, или иного лица, а также для защиты здоровья, свободы, целомудрия, иного личного или имущественного права его или третьих лиц. Угроза этим благам должна была быть неотвратима иными средствами, а причиняемый вред – менее ценным, чем охраняемое благо.
Если подвести итог развития дореволюционного законодательства о крайней необходимости, то анализ различных точек зрения показывает, что ненаказуемость действий при крайней необходимости обосновывалась на основе субъективных критериев, суть которых сводилась к следующему:
-
1) бессилие карательной угрозы удержать от совершения преступного деяния;
-
2) невозможность требовать от «среднего» гражданина героизма, который бы
позволил ему не перелагать опасность на другого;
-
3) невменяемость лица, оказавшегося в состоянии крайней необходимости;
-
4) бесцельность наказания с точки зрения общего и специального предупреждения;
-
5) отсутствие опасности субъекта, совершающего деяние в состоянии крайней необходимости;
-
6) необходимость считаться с инстинктом самосохранения.
Список литературы Историко-правовой анализ развития крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния
- Кони, А. О праве необходимой обороны / А. Кони // URL: http:// bookre.org (дата обращения 26.08.2017).
- Теория государства и права. М. : Велби; Проспект, 2005. С. 509.
- Древнерусское государство и право : учеб. пособие. М. : Зерцало, 1998.
- Борисевич, М. М. Римское частное право / М. М. Борисевич. М. : Юриспруденция, 2001. С. 3.
- Памятники римского права : законы XII таблиц. Институции Гая. Диггесты Юстиниана. М. : Зерцало, 1997.
- Вирясова, Н. В. Исторический аспект крайней необходимости / Н. В. Ви-рясова // URL: https:/e-koncept.ru (дата обращения 26.09.2017).
- Естественно-правовое учение С. Пуфендорфа // URL: http: // www.bibliotekar.ru (дата обращения 13.10.2017).
- Естественно-правовое учение Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814) // URL: http://www.bibliotekar.ru (дата обращения 13.10.2017).
- Иммануил Кант (1724-1804) // URL: pravo.hse.ru (дата обращения 13.10.2017).
- Асмус, В. Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля // URL: http://filosof.historic.ru (дата обращения 13.10.2017).
- Рудольф фон Иеринг (1818-1892) // URL: http:/www.bibliotekar.ru (дата обращения 13.10.2017).
- Пархоменко, С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости / С. В. Пархоменко. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 15.