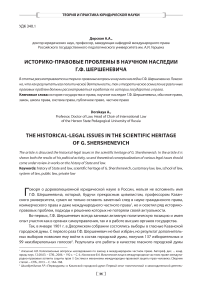Историко-правовые проблемы в научном наследии Г.Ф. Шершеневича
Автор: Дорская А.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются историко-правовые вопросы в научном наследии Г.Ф. Шершеневича. Показа- но, что как результаты его политической деятельности, так и теоретическое осмысление различных правовых проблем должны рассматриваться в работах по истории государства и права.
История государства и права, научное наследие г.ф. шершеневича, обычное право, школа права, система права, публичное право, частное право
Короткий адрес: https://sciup.org/14120068
IDR: 14120068
Текст научной статьи Историко-правовые проблемы в научном наследии Г.Ф. Шершеневича
Г оворя о дореволюционной юридической науке в России, нельзя не вспомнить имя
Г.Ф. Шершеневича, который, будучи прекрасным цивилистом, профессором Казанского университета, сумел не только оставить заметный след в науке гражданского права, коммерческого права и даже международного частного права1, но и осветил ряд историкоправовых проблем, подходы к решению которых не потеряли своей актуальности.
Во-первых, Г.Ф. Шершеневич всегда занимал активную политическую позицию и имел опыт участия как в органах самоуправления, так и в работе высших органов государства.
Так, в январе 1901 г. в Дворянском собрании состоялись выборы в гласные Казанской городской думы. С первого раза Г.Ф. Шершеневич не был избран, но результат дополнительных выборов позволил ему войти в состав городской думы, получив 137 избирательных и 99 неизбирательных голосов2. Результаты его работы в качестве гласного городской думы могут являться одним из источников по изучению реализации городской реформы 1870 г. Например, 17 января 1902 г. Габриэль Феликсович отказался от звания гласного городской думы, заявив, что основная задача думы – составление сметы доходов и расходов, которая определяет последующий год жизни горожан. Однако новая смета на 1902 г., по его мнению, «...была рассмотрена при самых неблагоприятных условиях», когда «смета доходов прошла в очередном заседании 18–19 декабря, а смета расходов – в экстренном заседании собрания, в составе 27 гласных, 29 декабря, т.е. в самый разгар рождественских праздников. Всем известно, что в это время многие гласные выезжают из Казани». Этим обстоятельством юрист объяснял «невероятную легкость, с какою прошла смета расходов в одно заседание, не возбудив ни сомнений, ни прений»3.
С началом Первой российской революции ученый выступал с публичными лекциями о том, в каких формах русский народ участвовал в государственном управлении в различные эпохи4.
Позже Г.Ф. Шершеневич стал депутатом Государственной Думы I cозыва от кадетской партии. Кроме законодательной деятельности он занимался изучением особенностей государственного строя, который складывался в России в 1905–1906 гг.5
Во-вторых, интерес представляет учение Г.Ф. Шершеневича об источниках силы государственной власти и применение его к российской истории. Таких источников он выделял пять.
На первое место ученый ставил полицию и армию, причем подчеркивал их значение в обеспечении спокойствия и «народной жизни». В современных историко-правовых исследованиях эта идея активно развивается6.
На второе – божественный ореол. Он отмечал, что «там, где религиозный страх силен, мысль о том, что за властью стоит само божество, что борьба с властью может вызвать борьбу со сверхъестественными силами, отбивала всякую охоту предпринимать безнадежное восстание... Где божественный характер власти был выдвинут особенно сильно, редко происходили народные революции, но очень часто случались дворцовые перевороты, потому что при дворе хорошо знали цену божественности»7. Когда божественный ореол власти ослабевает, по мнению Г.Ф. Шершеневича, государственная власть «одевается покровом права: она действует по праву, в пределах права, для торжества права... В ком сильно чувство законности, – не пойдет против установленной власти», т.е. создается «правовой ореол»8 – третий источник силы государственной власти.
Данное мнение Г.Ф. Шершеневича достаточно интересно применимо к истории государства и права Российской империи. Петр I вольно и невольно разрушил устоявшиеся представления. В Духовном регламенте 1721 г. фактически было закреплено, что: 1) духов ные нужды и управление оных духовный чин, также как и чин воинский и гражданский, составляют объект властного попечения монарха, 2) монарх своей волей учреждает орган, ведающий управлением духовного чина (Святейший Синод), 3) монарх осуществляет свое властное попечение о церкви, как власть государственная, вместе с Сенатом.
Таким образом, российский император выступал как защитник, своеобразный «гарант» религии, чем разрушал свой «божественный ореол». Последовавшая эпоха дворцовых переворотов только усилила это ощущение. Неслучайной в этой связи выглядит деятельность восьми комиссий, работавших в XVIII в., по составлению нового Уложения. В XIX в. ситуация сохранилась и вынудила власть пойти на широкомасштабную систематизацию российского законодательства в форме Полного собрания и Свода законов Российской империи, а также работу по созданию первых кодексов. Согласно статье 42 части тома I Свода законов Российской империи, «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния». В начале ХХ в. уже начались открытые призывы распространить «правовой ореол» и на Церковь. Так, Е.Н. Темниковский писал: «Начало соединения в лице государя страны государственной и церковной власти... должно исчезнуть раз в правосознание общества проникнет убеждение, что религия составляет абсолютно запретную область для государственного властвования. Правовое, конституционное государство должно дать свой чекан церковному строю. В правовом государстве должна быть правовая церковь»9.
Четвертый источник силы государственной власти Г.Ф. Шершеневич видел в традиции, которую понимал как силу государственного порядка. Он отмечал психологический факт, что человеку свойственно относиться снисходительно к тому, что уже давно существует, и критически к тому, что только что установилось, а отсюда делал вывод: «Чем дольше держится известный государственный порядок, тем крепче он, пока не придет в совершенную негодность... Каждая ошибка новой власти ставит ее в опасность, тогда как старой власти прощают много крупных ошибок»10. Данное положение также, на наш взгляд, способствует пониманию истории российского государства и права: многие государственные органы существовали веками и крайне неохотно упразднялись (например, даже Петр I не рискнул сразу упразднить приказы, созданные во второй половине XV в. Иваном III, и до конца его царствования приказы существовали как вспомогательные органы коллегий), очень часто реформаторы погибали или устранялись (Александр II, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, Н.С. Хрущев и другие), реформы иногда не находили отклика у тех, для кого проводились(значитель-ная часть крестьянства, недовольная Манифестами об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г.) и т.д.
Наконец, пятым источником силы государственной власти Г.Ф. Шершеневич считал сочувствие населения. Он отмечал, что только поставивши своей задачей «наиболее благо наибольшего числа людей», может государственная власть спокойно и твердо действовать. При этом им была выведена следующая формула: «...разумный законодатель должен думать не столько о величине страдания, которым он предполагает угрожать, сколько о том, чтобы граждане были снабжены личными и материальными благами. Сначала дай, а потом грози отнять»11. В истории российского права очень часто было наоборот: власть грозила отнять то, чего люди не имели. Ярким примером являлось советское конституционное право. Декларативные положения и реальность достаточно сильно различались. Например, Конституции СССР 1924 и 1936 г. не давали даже представлений о системе источников права и их иерархии12.
В-третьих, как известно, Г.Ф. Шершеневич критиковал теорию разделения властей в ее классическом варианте в духе Ш. Монтескье. Он писал, что «трех равных властей существовать не может: та, которая в действительности окажется наиболее сильною, и будет настоящею властью, а остальные подчинятся ей поневоле и перестанут быть самостоятельными властями... Законодательство, исполнение (управление) и суд – это не три власти, это только три формы проявления единой, неделимой государственной власти»13. В истории российского права этот тезис не раз находил подтверждение. Традиционно исполнительная власть превалировала над законодательной и судебной. Даже на современном этапе принцип разделения властей не является системообразующим для организации государственного управления в России. В частности, это отразилось в особом статусе Президента Российской Федерации, который не относится ни к одной из ветвей власти, а является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). Как отмечает И.П. Кененова, «носитель высшей власти – фактически единственное “ответственное” лицо в пирамиде власти, но и его ответственность носит скорее нравственный, нежели правовой характер»14.
В-четвертых, для историко-правовой науки интерес представляет и отношение выдающегося казанского цивилиста к различным правовым школам. Как отмечает Р.Р. Шигабутди-нов, «свое определение права Г. Шершеневич основывал на отрицании существования естественного права. Под правом он понимал те законодательные нормы, которые установлены в государстве, а поэтому для него право есть изменчивая субстанция. Отказ от естественного права приводил его к выводу, что “право есть продукт государственной власти, правила исходят от нее в виде законов и оправдываются той полезностью, которую от них ожидают для всех граждан”, власть устанавливает право исходя “из принципа общеполезности”. Определяя право, он выводил его основные черты. Во-первых, право получает выражение в виде правил поведения. Во-вторых, правовые нормы имеют властный характер. В-третьих, правовые нормы подкреплены силой власти»15.
Историческая школа права также не вызывала у Г.Ф. Шершеневича больших симпатий, так как она «выдвинула национализм против космополитизма»16. Но он признавал ее огромное значение для российского права в связи с тем, что обычное право в России по сравнению с другими европейскими странами было чуть ли не главным источником права для подавляющего большинства российского населения. «Обычное право по своей неповоротливости, – непригодный источник права... Разыскание обычаев очень затруднительно, и установление их точного смысла – дело нелегкое... Чем больше разные части обширного государства приходят между собой в соприкосновение по экономическому обмену, чем сильнее передвижение, тем больше стремление к тому, чтобы на протяжении всей страны действовали одинаковые нормы права. Между тем обычное право, по необходимости, имеет всегда местный характер и потому страдает крайним разнообразием: что деревня, то норов»17. Кроме того, Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что правовые обычаи не слишком устраивают власть своим политическим подтекстом. Он писал: «Русское законодательство всегда неблагосклонно относилось к обычаю, вследствие близкой связи последнего с идеей местной автономии, и постоянно стремилось выставлять на первом плане указы, уставы и т.п. законодательные источники»18.
Несмотря на отрицательные «свойства» обычного права, в своих работах ученый уделял ему достаточно большое место. В частности, он выделял два основных признака обычного права: 1)однообразно повторяемая норма, в основе которой лежит правовое сознание или народное убеждение в необходимости данного правила (opinion necessistatis), т.е. психологический признак; 2) повторное соблюдение правила, т.е. материалистический признак: либо правило вытекает из последовательного повторения на значительном пространстве времени, либо из массового повторения в данное времясредизначительного числалиц. К второстепенным признакам обычного права были отнесены разумность правовых обычаев и их согласованность с нравственностью19.
Сам Г.Ф. Шершеневич «твердо стоял на позициях позитивизма... Ученый обращал внимание на исторические памятники и сборники обычного права, которые основывались на авторитете “старины”, сложившегося порядка, “пошлины”, но не авторитете правосознания. В “старине” и “пошлине”, а не в убеждениях современников как раз и заключалась нравственная сила правовых обычаев»20.
В-пятых, естественно, чтотруды Г.Ф. Шершеневичаявляются обязательным источником при изучении истории гражданского и торгового права России. Не зря, как только в постсоветский период началось возрождение некоторых дореволюционных институтов права, его учебники были переизданы21.
Особое значение для современной историко-правовой науки имеет утверждение Г.Ф. Шершеневича о том, что историю гражданского права России нельзя изучать как историю гражданского законодательства. Он писал, что общее гражданское законодательство благодаря своему историческому сложению, имеет в виду только высший класс общества оставляя без внимания всю крестьянскую массу населения, жизнь которого регулируется, в основном, нормами обычного права. Если учесть, что крестьянство составляло приблизительно 82% российского населения, то история российского гражданского права вплоть до революции 1917 г. выглядитсовсем не так, как мы привычно видим ее исходя из норм Русской Правды, Судебников, Соборного Уложения 1649 г. и Свода законов Российской империи.
Главным источником права Г.Ф. Шершеневич считал закон, однако он был не удовлетворен основной формой, существовавшей в России, – Сводом законов Российской империи.
В 1897–1899 гг. ученый посвятил ряд работ изучению истории кодификации гражданского права. Причем необходимо отметить, что по данному вопросу Г.Ф. Шершеневич считал обязательным применение не только диахронного, но и синхронного среза сравнительноправового метода. Фактически он изучил основные этапы кодификации гражданского права России, Франции, Германии и Италии22.
В-шестых, огромную актуальность имеет идея Г.Ф. Шершеневича о том, что необходимо изучать историю не только отдельных отраслей права, но и системы права. В частности, большое внимание исследователь уделил осмыслению системы, по которой был построен Свод законов Российской империи.
Как известно, – писал ученый, – система, по которой был изложен материал в Своде законов Российской империи, была основана на следующем принципе: «Два союза, два порядка отношений необходимы в государстве: союз государственный и союз гражданский. Союз государственный есть внутренний и внешний. Союз гражданский есть или семейственный или союз по имуществам. Из союзов возникают права и обязанности. Те и другие определяются и охраняются законами. Отсюда два порядка законов: законы государственные и законы гражданские»23.
Определение системы российского права вызывало большие затруднения, так как при составлении Свода законов М.М. Сперанскому изначально не дали сделать задуманное: вместо кодификации была проведена лишь систематизация огромного законодательного материала (инкорпорация). Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «последующая история нашего законодательства обнаружила, какие крупные затруднения создал Свод, затруднения, – которые тогда не осознавали, а если и осознавали, то закрывали глаза, оставляя будущему распутываться»24.
Кроме того, что при создании Свода законов система права уже не была четкой, дальнейшие издания Свода еще больше ее запутали. Изначально предполагалось, что полное издание Свода законов будет проводиться каждые десять лет. И действительно, второе издание вышло в 1842 г. Нотретье издание было опубликовано уже в 1857 г.,т.е. через пятнадцать лет, после чего обновление Свода стало проводиться только по частям и в разное время. Появились Продолжения к Своду законов, которые были двух видов: очередные, указывавшие на изменения, которые произошли со времени предшествующего Продолжения, и сводные, содержащие изменения в законодательстве со времени последнего издания Свода.
В Своде законов трудно найти разграничительную линию между публичным и частным правом, а также отраслями права.
В первом издании Свода законов Российской империи 1832 г. деление на публичное и частное право не было четко выдержано. После норм публичного права (основные законы и учреждения государственные, учреждения губернские, уставы о службе гражданской, свод уставов казенного управления, свод законов о состоянии людей) в томе Х содержались нормы частного (гражданского) права, а затем свод уставов благочиния и свод законов уголовных вновь содержали публично-правовые нормы.
В последующих изданиях также четкого деления на публичное и частное право не было. Зато более четко стало проявляться деление права на отрасли. Оформлялось государственное, административное, гражданское, уголовное, финансовое, уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное право25.
Ярким примером невозможности деления российского права только на публичное и частное Г.Ф. Шершеневич считал торговое право. Он показал, что в понятие торгового права должны быть включены и публичное торговое право, регулирующее отношения между самим государством и лицами, занимающимися торговой деятельностью, и международное торговое право, регламентирующее отношения по торговле одного государства к другому и отношения каждого из них к подданным другого, а также взаимоотношения подданных разных государств как частных лиц, и частное торговое право26.
Изучая систему права дореволюционной России сегодня, необходимо учитывать дан-ныефакты.Длясовременной историко-правовой науки важными являются выводы Г.Ф. Шер-шеневича и многих его современников о том, что «1) необходимо сочетать при построении системы права материальный и формальный критерии; 2) невозможно четко определить существующие нормы по отраслям частного и публичного права»27.
В-седьмых, важной для историко-правовой науки является идея единства частного права. Известный российский цивилист не соглашался с мнением западноевропейских уче-ных28, которые видели в части второй тома XI Свода законов Российской империи доказательство существования особого торгового права. Он писал: «Мы вправе... утверждать, что в русском законодательстве не существует разделения частного права на общее гражданское и торговое. Существуют только отдельные уставы, касающиеся частных отношений между торгующими, не исключающие применения норм общего гражданского права»29. При этом исследователь подчеркивал, что идея единства частного права пронизывает историю русского права и была реализована М.М. Сперанским в Своде законов Российской империи, который «понимал под гражданскими законами все то, что на Западе содержится в гражданских и торговых уложениях»30. Современные исследователи поддерживают идею единства частного права31, что подчеркивает возрождение исторической преемственности в частноправовых вопросах.
В-восьмых, исследования особенностей правового положения различных субъектов права дореволюционной России также могут опираться на разработки Г.Ф. Шершеневича.
Ученый давал следующее определение: «Способность стать и быть субъектом прав называется правоспособностью или правовой личностью. Правоспособность не есть особое право, а лишь условие для правообладания... Дееспособность –...способность вызывать своими действиями правовые последствия... Правоспособность не составляет естественного свойства человека, а есть состояние объективного права. Поэтому она поддается историческим колебаниям... В истории мы знаем моменты, когда правоспособности лишены рабы, иностранцы, осужденные за тяжкие преступления. Правда, в настоящее время признается, как общий принцип, что правоспособность составляет достояние каждого человека. Однако, в иных странах, как, например, в России, правоспособность некоторых категорий людей, например, евреев, подлежит значительным ограничениям»32.
Интерес вызывают и замечания Г.Ф. Шершеневича относительно особенностей российского законодательства в определении правоспособности: «Предельный момент правоспособности физического лица – это смерть человека. Однако объективное право в разные исторические моменты создавало и иные основания для прекращения правоспособности. Таким основанием являлось наказание за совершенные преступления, известное под именем гражданской смерти, которое держалось в Европе до половины XIX столетия, а в России держится отчасти и до сих пор, под именем лишения всех прав состояния. Таким же основанием для прекращения правоспособности является пострижение в монашество, с которым соединялось представление об отречении от мира; в настоящее время пострижение сохраняет свое юридическое значение только в России»33.
Наконец, Г.Ф. Шершеневич оставил очень интересные идеи относительно определения церковного права и его места в системе дореволюционного российского права.
Он очень четко различал термины «церковное право» и «каноническое право». Нормы канонического права принимались только церковными органами и становились нормами церковного права, только если получали санкцию государства. Например, в Уставе духовных консисторий. Церковное право – это позитивное право, источником которого являлось государство. Г.Ф. Шершеневич выстроил следующую логическую цепочку: «Жизнь... религиозного союза поддается нормировке в двояком отношении: со стороны внутренних отношений среди членов Церкви и со стороны внешних отношений Церкви, как общественного союза, к государству как внешней принудительной организации. На этой почве создалось двоякое право: а) каноническое и b) церковное. Отождествление этих двух терминов является неправильным... Церковное право дает нормы, церковные по своему содержанию, хотя бы своим происхождением они обязаны были не церкви, а государству... Каноническому праву вообще нет места в системе права. Это учение о нормах sie generis»34.
В «Курсе гражданского права» Г.Ф. Шершеневич показал отличия в развитии права России и Западной Европы. «Под именем канонов, – писал ученый, – следует понимать те нормы поведения, которые сложились в недрах церкви и не зависят от авторитета светской власти. В прежнее время, государственная власть... охотно предоставляла церкви вырабатывать социальные нормы, которых соблюдение она делала обязательным. Таким образом, церковь выработала содержание норм, государственная власть присоединила к ним свое повеление... В XIX веке, благодаря усиленной законодательной деятельности во всей Европе, каноны... уступили совершенно место новейшим кодексам... Ни в Гражданском кодексе Франции начала XIX века, ни в Гражданском уложении Германии конца XIX столетия уже не встречается ссылок на каноны... В России дело обстоит до сих пор иначе. При бедности русского гражданского законодательства нет ничего удивительного, что светские гражданские законы иногда дополняются каноническими правилами. Так, например, запрещая браки между близкими родственниками, законодатель неопределяет сам, в каких степенях родствабрак не может быть допущен, ассы-лается на положение церкви (Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1. С. 23)»35.
Участвовал российский исследователь и в дискуссии о месте церковного права в системе права. Его мнение было однозначно: «Церковное право... поскольку оно своим происхождением обязано государству, а по содержанию определяет положение церкви в государстве, – оно есть право государственное, а следовательно вид публичного права»36.
Ссовременных позиций можно несогласиться с выдающимся российским цивилистом. Значение церковного права было настолько велико, по крайней мере, в период Российской империи, что его можно считать либо особой правовой системой, либо отраслью права. Однако проведенное Г.Ф. Шершеневичем различие между церковным и каноническим правом являлось прорывом для своего времени, результаты которого не в полной мере используются современной юридической наукой.
Таким образом, научное наследие Г.Ф. Шершеневича имеет огромный потенциал не только для российской цивилистики, но и историко-правовой науки. Использование трудов выдающегося российского юриста может помочь в переосмыслении иерархии источников права России XIX – начала XX в., возможностей кодификации, системы права и роли ее отдельных элементов, таких, например, как торговое и церковное право. Практическая работа выдающегося российского ученого в качестве гласного городской думы, депутата Государственной Думы и ее научное осмысление, которое он нам оставил, могут служить одним из источников по истории государства и права России конца XIX – начала XX в.
Список литературы Историко-правовые проблемы в научном наследии Г.Ф. Шершеневича
- Алешина А.В. Коллизионные вопросы наследования по закону в международном частном праве. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 12.00.03. - СПб., 2006. - 192 с.
- Артамонова Г.К. и др. Социально-правовое развитие общества и трансформация обычаев в праве / Артамонова Г.К., Бабаджанов И.Х., Горбашев В.В., Реуф В.М. // Мир политики и социологии. - 2012. - № 9. - С. 75-92.
- Двойнишникова И.Н. Деятельность пограничных войск СССР накануне и в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг.: Историко-правовой аспект. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 12.00.01. - СПб., 2012. - 24 с.
- Звонарев А.В. К вопросу об особенностях комплектования российской армии и становления налоговой системы Российской империи во второй четверти XVIII столетия // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 3 (15). - С. 29-37.
- Кененова И.П. «Вертикаль исполнительной власти» и некоторые конституционно-правовые проблемы современного цикла развития власти в России // Государственная власть и местное самоуправление. - 2007. - № 3. - С. 3-14.