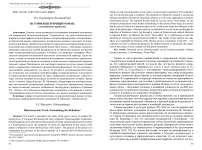Историоцентричный роман: к постановке проблемы
Автор: Биктимиров Владислав Эдуардович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена исследованию жанровой разновидности современной исторической прозы. Утверждается, что среди множества субжанров (историографический метароман, историософский роман, альтернативноисторический роман) современного исторического романа существует историоцентричный роман, проблематика которого определяется вектором авторских размышлений над исторической судьбой нации. Цель статьи - обосновать наличие в новейшей словесности особой разновидности исторического романа, именуемой нами историоцентричным романом, и выявить его жанровую специфику. Методология в решении поставленной цели носит синтетический характер. Среди методов, в опоре на которые выполняется исследование, используются сравнительно-исторический, историко-культурный, а также подходы современной герменевтической теории. Материалом для настоящего анализа послужил роман «Новый центр» современного немецкого прозаика Йохена Шимманга. В ходе настоящего исследования доказывается, что мысль об истории в историоцентричном романе, возникшем под влиянием идей философии историоцентризма, воплощается в художественном произведении не через изображение исторических событий, а через систему историко-культурных аллюзий на национальную историю. Кроме этого, в романе «Новый центр» Й. Шимманга обнаруживается интенция решения поставленной исторической проблемы. Результаты проведенного анализа не только позволяют осветить особенности литературного процесса в Германии XX - XXI вв., но и обозначить перспективы дальнейших исследований, в частности расширение корпуса текстов, подходящих под данную жанровую номинацию.
Исторический роман, историоцентричный роман, историоцентризм, современная немецкая литература, й. шимманг, «Новый центр»
Короткий адрес: https://sciup.org/149136570
IDR: 149136570 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00004
Текст научной статьи Историоцентричный роман: к постановке проблемы
Одним из магистральных направлений в современной теории повествовательных жанров является изучение специфики исторического романа. Его определяющей чертой, по мысли Дж. де Гроота, является «межродовая гибридность и подвижность» (здесь и далее перевод наш, В. Б.) [Groot 2010, 2]. Способность к постоянному эволюционированию исторического романа обусловлена такими факторами, как смена культурных парадигм и развитие философских и историософских концепций Нового времени. В современной литературе появляются новые историоориенти-рованные произведения, чьи поэтика и проблематика не укладываются в рамки традиционного исторического романа. Исходя из этого, цель настоящей статьи - обосновать наличие в новейшей словесности особой разновидности исторического романа, именуемой нами историоцентричным романом, и выявить его жанровую специфику.
Теория исторического романа как в отечественной, так и зарубежной науке очень объемна, поэтому, прежде чем перейти к аргументированному изложению нашей концепции, обратимся к научной рефлексии развития и типологии исторического романа в новейшей литературе.
Главенствующая в культуре рубежа XX XXI вв. постмодернистская философия, активно усвоившая историософские концепции Ф. Ницше и О. Шпенглера, раскрыла новые представления об историческом процессе. Одним из примеров постмодернистского взгляда на историю является идея Ж. Бодрияра о том, что «история воскрешается в беспорядке - ни одна сильная идея отныне не производит отбор, бесконечно накапливается одна лишь ностальгия: война, фашизм, роскошь Прекрасной эпохи и революционная борьба, все эквивалентно и перемешивается без различения» [Бодрияр 2013, 70]. По мысли философа, история не разворачивается в линейной перспективе: прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в культурном сознании в парадоксальном единстве, что не позволяет мыслить историю как единый и референциальный нарратив, которому доступ- на репрезентация прошлого. Из этого следует, что для современной художественной словесности свойственна тенденция к разрушению «больших повествований» (Ж. Лиотар). Культура постмодерна уничтожает единство, выворачивает наизнанку связи, дробит целое на отдельные фрагменты. В рамках лиотаровской критики великих нарративов становится объяснимым соприсутствие в культуре различных точек зрения на универсальные явления, в том числе и на исторический процесс. Неслучайно французский философ сетовал на «огромную цену», которую европейская цивилизация заплатила за «ностальгию по всеобщему и единому» [Lyotard 1992].
Следуя за идейно-эстетическими концепциями теоретиков и философов постмодернизма, современные писатели прибегают к разным приемам работы с историческими документами, свидетельствами и сюжетами. В прозе XX XXI вв. появляются такие разновидности исторического романа, как историософский и альтернативно-исторический, а также историографический метароман.
Концепция историографического метаромана (historiographic meta-fiction) была разработана в серии работ канадской исследовательницы Л. Хатчеон [см. Hutcheon 1986; Hutcheon 1989]. Ю.С. Райнеке комментирует ее идею следующим образом: «Историографический - дословно пишет историю, метароман - текст комментирует свой вымышленный статус, подчеркивает сделанность произведения, обнажает “текстуальность текста”» [Рейнеке 2002, 9]. Л. Хатчеон связывает возникновение данного художественного явления с тем, что историческая наука утратила свой привилегированный статус как носителя объективного знания. Прибегая к инструментарию постмодернистской поэтики (пародирование, интертекстуальность, метанарративаность и др.), такие писатели, как Дж. Фаулз, Т. Пинчон, К. Воннегут, Дж. Барнс и др., стремятся доказать невозможность объективного знания о событиях минувших эпох. В своих произведениях авторы считают необходимым не дать единственно правильную версию истории, а сделать ее предметом размышлений и гипотез. По словам самой Хатчеон, «историографический метароман создает впечатление, что готов использовать любые значительные практики, которые он оперативно находит в социуме. Он хочет бросить вызов этими дискурсам и извлечь из них все, чего они стоят» [Hutcheon 1989, 16]. В этом отношении, историографический метароман является «продуктом» постмодернизма, т.к. он не только использует классическую поэтику, но и пародирует ее. Это можно увидеть в одном из первых, по замечанию исследователей, историографическом метаромане - «Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза (“’The French Lieutenant s Woman ”, 1969), в котором английский писатель стремится показать серьезное отношение к литературной классике, но одновременно пародирует викторианскую литературу (Ч. Диккенса, Ш. Бронте, Э. Гасскелл и др.) [см. Hutcheon 1988; Holmes 1997; Мостобай, 2010].
Второй жанровый вариант исторического романа - роман историософский, который неоднократно становился предметом научных изысканий. 56
Так, Т.Н. Бреева пишет, что, «если анализировать структуру историософского романа как синтетическое сопряжение содержательной и формальной жанровых сторон, то обязательным компонентом первой составляющей становится выстроенная историософская авторская концепция, а формальной жанрообразующей чертой выступает восприятие истории как жанровой стратегии» [Бреева 2010, 142]. Действительно, необходимым условием историософского романа является наличие индивидуально-авторской концепции истории, для создания которой, по мнению исследователя, могут быть использованы разные приемы. Самой распространенной художественной стратегией для понимания движения истории является обращение к национальной и культурной мифологии. Воспроизводя архетипические образы, легендарные сюжеты и мифологемы, писатель может выразить свою точку зрения на процесс исторического развития. Так, Дж. Барнс в романе «История мира в 10 /2 главах» ( “A History) of the World in IOV2 Chapters”, 1989) переосмысливает общеизвестные библейские образы, обыгрывая идею цикличности исторического процесса. В одной из глав романа («Интермедия») Барнс утверждает, что история - это «эхо голосов во тьме; образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают; легенды, старые легенды, которые иногда как будто перекликаются; причудливые отзвуки, нелепые связи» [Барнс 2019, 292]. Автор представляет движение исторического процесса в нерасторжимой связи временных констант: прошлое, настоящее, будущее. Апеллируя к мифологическим образам, он задается философскими вопросами о бытии человека, природе его личности, возможности сохранения цивилизации, предотвращении грядущих катастроф.
Третьей разновидностью современной исторической прозы является альтернативно-исторический роман. ГВ. Кучумова определяет его как особую сферу «игровой деятельности автора, совершенно новые игровые территории, исследующие возможные, не состоявшиеся в реальности варианты истории нашего мира. Как новая романная форма, альтернативноисторический роман, соединяет в себе высокое и низкое, факт и вымысел, тяготеет к многослойности, стиранию границ между элитарным и массовым искусством» [Кучумова 2019, 179]. Такие романы, как «11/22/63» (“11/22/63”, 1985) С. Кинга, «Фатерланд» (“Fatherland”, 1992) Р. Харриса и др. освещают уже известные исторические события, но в ином, отличном от традиционной трактовки, ключе. Используя «старые» сюжеты, знакомые темы, писатели нередко прибегают к элементам фантастики и пародии, чтобы подчеркнуть вымышленный характер собственной интерпретации. В настоящее время «обращение к альтернативным мирам является вполне опосредованным и закономерным желанием игровой деятельности автора рассмотреть иные варианты истории, воплощающие возможные образы социального мира» [Кучумова 2019, 179]. Игра с историческими сюжетами апеллирует к рефлексивной деятельности читателя, направляя ее в русло анализа возможной версии событий.
Все три разновидности исторического романа, представленные в со-

временной литературе, были актуализированы в постисторическую эпоху, когда идея «конца Большой истории» (см. [Фукуяма 2004]) трансформируется в идею «частной» истории. Добавим, что во всех вышеуказанных типах исторического романа писатели не стремятся переписать историю. Исследуя корни прошлого, они ищут связь прошлого с настоящим, чтобы акцентировать читательское внимание на вопросах современности. Обращение к истории представлено как стремление найти точку опоры в хаотичном мире. Несмотря на очевидное сходство, главное различие историографического, историософского и альтернативно-исторического романов заключается в том, что их авторы выбирают разные пути для освоения реальности.
Вместе с тем, в современной литературе появляются такие посвященные интерпретации исторического процесса произведения, специфика которых вынуждает исследователя к поиску новых жанровых номинаций. С нашей точки зрения, в литературе зарождается новая разновидность исторического нарратива, которую мы предлагаем называть «историоцен-тричным романом». Это роман, в котором мысль об истории представлена вовсе не в форме повествования об исторических событиях, как в других вышеназванных формах исторического романа. Ощущение присутствия истории в нарративе такого романа формируется по-другому, минуя прошлое в качестве непосредственного предмета изображения.
Так, Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий, обнаруживая историоцен-тричную интенцию в творчестве Ю. Трифонова, связывают ее осуществление с описанием бытовой жизни [см. Лейдерман, Липовецкий 2003]. С их точки зрения, Трифонов пришел к «парадоксальному выводу: никакой Большой Истории не существует, Большая История - это концепт, в сущности, обесценивающий то, что составляет суть человеческой жизни -мелкие хлопоты, заботы, беготню. Вместо этого он пришел к пониманию того, что все, что потом вносится в реестр Большой Истории, на самом деле вызревает внутри быта, бытом предопределено и в быт уходит» [Лейдерман, Липовецкий 2003, 253]. Для отечественного писателя история познается через детали личного быта героев: детские игры, летние купания, поездка за картошкой и т.д. Именно через эти детали «частного быта» герои трифоновских произведений уравнивают в своем сознании малое и большое, личное и общее, бытовое и общеисторическое. При этом стоит отметить, что Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий не употребляют понятие «историоцентричный» в качестве жанровой характеристики.
Мы предлагаем использовать термин «историоцентричный роман» в роли жанрового определения. С нашей точки зрения, это субжанр исторического романа, возникший под влиянием философской концепции исто-риоцентризма, в основе которой лежит идея о «своеобразной “одержимости историей”, при которой прошлое неизбежно должно стать предметом переживания» [Шубина 2009, 12]. Именно в апелляции к историческому прошлому коренится основа «для возрождения национальной идентичности» [Шубина 2009, 12]. Методологический потенциал предлагаемого жанрового определения мы проиллюстрируем на примере романа «Новый центр» (“Neue Mitte”, 2011) И. Шиманга. В этом произведении мысль об истории находит особое - аллюзивное - воплощение (в отличие от ряда произведений Ю. Трифонова, где она складывается в поэтике бытописания).
Йохен Шимманг (Jochen Schimmang, р. 1948) - писатель, переводчик, литературный критик, чья деятельность была неоднократно отмечена наградами в сфере художественного творчества. Писатель во многом известен за рубежом по романам «Прекрасная птица феникс» (“Der schone Vogel Phonix ”, 1979), «Лучшее, что мы имели» (“Das Beste, was wir hatten ”, 2009) и др. На русский язык переведен единственный роман Шимманга «Новый центр», удостоенный «Фантастической премии города Вецлар» (“Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar”) в 2012 г.
Действие романа Шимманга происходит в третьем десятилетии XXI в. (2029-2030 гг). Автор изображает будущее Германии как состояние глубокого общественно-политического кризиса. На протяжении девяти лет немецкое государство находилось под властью хунты, которой руководил генерал Роткирх. После ее свержения страна, в изображении Й. Шимманга, оказалась раздроблена на несколько оккупационных зон. Теперь перед жителями Германии стоит глобальная задача - восстановить утраченное наследие и былое достояние страны.
Несмотря на то, что сюжетное действие романа Й. Шимманга происходит в будущем, его нарратив подразумевает обращение к трагическим событиям немецкой истории XX столетия, а именно, к периоду правления национал-социалистической партии. Так, например, в изображении лидера хунты на фотографиях проскальзывают внешние черты фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера: «Фотография сильно потемнела и покоробилась, но Генерал на ней был таким, каким его знал весь мир: в полупрофиль, коротко пострижен, ровный пробор, взгляд должен сочетать решимость и доброту» [Шимманг 2013, 8].
Официальным юристом хунты был Освальд Кольберг - «специалист по конституционному праву». В образе политика угадываются черты реальной исторической личности - Карла Шмитта, «коронованного юриста Третьего рейха» (“Kronjurist des Dritten Reiches'") [Frye 1966, 818]. Шмиттовские труды в области политического права оказали существенное влияние на идеологию нацистской Германии. Впоследствии немецкий теоретик стремился противостоять господствующему идеологическому режиму, что привело его к потере авторитета среди национал-социалистической партии. Й. Шимманнг в образе Освальда Кольберга стремится подчеркнуть его сходство с историческим прототипом. Немецкий романист неоднократно упоминает тот факт, что политические труды юриста были использованы лидером восстания: «Главная способность Кольберга заключалась в том, что он с гениальной убедительностью мог превращать черное в белое и белое в черное, а Генерал и его хунта нуждались в этом больше всего. <...> сквозь все работы Кольберга красной нитью прохо-
дит мысль о том, что Генерал защищает страну, благосостояние граждан и правопорядок» [Шимманг 2013, 62]. Освальд Кольберг, как и его исторический прототип, после падения диктатуры хунты отказывается от своих идей и продает свою библиотеку, чтобы на полученные средства эмигрировать из страны. Однако ожиданиям Кольберга не суждено сбыться: бывший юрист хунты был убит таинственными недоброжелателями.
Главный герой, Ульрих Андерс, приезжает в Берлин по приглашению своего давнего товарища - Кая Зандера. Во время правления хунты герой Шимманга, от чьего лица ведется повествование, пребывает в состоянии «внутренней эмиграции». Только по приезде в Берлин меняется не только сознание героя, но и его жизнь: Ульрих получает работу, заводит друзей, обретает любовь. Город вновь начинает оживать, когда на «ничейную территорию» приезжают люди самых разных профессий: 1Т-специалисты, историки, библиотекари, менеджеры и т.д. Однако по прошествии времени, когда в Берлине вновь устанавливается привычная жизнь, горожане все равно чувствуют себя чужаками в этом пространстве. Даже в своих разговорах герои редко называют свой город его официальным именем, чаще прибегая к словам «снаружи» (draufien) и «столица» (die Hauptstadt), о чем свидетельствует речь и самого Ульриха: «Как и все, кто жил здесь, я говорил либо “снаружи”, подразумевая город, либо в “столице” - и никому не известно было, кто первый придумал эту формулу. Только сейчас мне пришло в голову, насколько ярко у всех нас было выражено сознание обособленности. Для нас это была неприкосновенная территория, островок посреди Берлина, города, который мы никогда не называли по имени, ибо не ощущали себя его жителями» [Шимманг 2013, 160].
Согласно немецкой истории, после 1945 г. Берлин был разделен на четыре оккупационные зоны, а впоследствии, с возведением Берлинской стены, столица разграничена на Западную и Восточную. В результате появилось два отличных друг от друга государства со своей политической системой, идейными ценностями и культурным наследием. Шимманг подразумевает эмоциональное состояние немцев на рубеже XX XXI вв., описываемое многими как чувство страха перед неизвестностью, вызванное объединением Германии в 1990 г. По мысли ГВ. Грошевой, разобщенность немцев связана с «кризисом немецкой национальной идентичности, обусловленным проблемами консолидации этнической нации (западные и восточные немцы, этнические немцы-переселенцы), проблемами интеграции иммигрантов в немецкое общество и формирования общей гражданской идентичности» [Грошева 2014, 43]. Вследствие этого перед немецкой нацией возник остросоциальный вопрос - вопрос о национальном единстве, о согласии и доверии между людьми, разделенными на длительное время Берлинской стеной.
Истолкование содержания шимманговского романа может обеспечить обращение к концепции М. Элиаде. «Прошлое, - читаем в его работе “Миф о вечном возвращении”, - это всего лишь предопределение будущего. Ни одно событие не является необратимым, и никакое изменение не является окончательным. В определенном смысле можно даже сказать, что в мире не происходит ничего нового, ибо все, что есть, - это всего лишь повторение прежних первичных архетипов» [Элиаде 1998, 88]. Обращаясь к историческим реалиям минувшего столетия и проводя аллюзивную параллель их с моделируемыми в романе событиями, Шимманг показывает, что все события прошлого повторяются вновь, как и в мифе. Через символические отсылки к национальному прошлому автор показывает нерасторжимую связь прошлого и будущего.
Главным событием в романе является строительство библиотеки, которое герои понимают как способ преодоления национального кризиса. Возможность возрождения нации немецкий писатель видит в обращении к культурному наследию прошлого, заключенному в книгах, и, шире, литературе. И именно для того, чтобы преодолеть кризис цивилизации, герои Шимманга, Кай Зандер и его ученик Ульрих Андерс, создают государственную библиотеку - книжное хранилище, оплот человеческих знаний, новый центр: «Мы не были больше анклавом или эксклавом, монастырем или бегинажем, мы не были промежуточным пространством или периферией; мы были теперь внутри. Возможно, мы были даже тем, чем никто из нас быть не хотел, - новым центром» [Шимманг 2013, 277]. По замыслу героев, книжный архив должен послужить не только образовательным целям, но и преодолению общественно-политического кризиса.
Проект по возрождению нации связан и с идеей создания нового человека - гуманистической личности, которая не допустит повторения ошибок минувшего столетия. Примечательно, что данная идея, выдвинутая Шиммангом, также является аллюзией на послевоенные дискуссии немецких интеллектуалов (А. Гелен, К. Ясперс, Д. Штернбергер и др.) о морально-нравственном преображении человека, которые были описаны, например, А. Ассман: «После того как национал-социализм был всем, а отдельный человек - ничем, речь пошла о том, чтобы начать именно с отдельного человека. <...> вопрос о новом человеке стал главной темой идейной ориентации» [Ассман 2019, 301-302].
Библиотечный каталог, изображенный Шиммангом, очень обширен. Среди обнаруженных книг есть не только реально существующие научные труды и образцы художественной литературы, но и произведения, созданные авторским воображением. Процесс распаковки и каталогизации книг описан как блуждание по бесконечному лабиринту. «Вымышленные» произведения отсылают читателя к выдающимся образцам мировой словесности. Так, например, найденное издание «Смерти Хорхе Бургосского» под авторством А. Мелька отсылает нас к роману «Имя розы» У. Эко, в котором одним их действующих лиц является не кто иной, как сам Хорхе Бургосский. Многочисленные литературные отсылки к У. Эко, Х-Л. Борхесу, Ф. Кафке, М. Бютору Ф. Песоа и др. обоснованы свойственной шим-манговскому роману приверженностью к постмодернистской поэтике, в частности, его склонностью к «условной игре, в которой участвует читатель наравне с писателем» [Андреев 2000, 252]. Это подтверждает и мысль

о бесконечности библиотеки, высказанная Х-Л. Борхесом и также встречающаяся в романе И. Шимманга: «По сути дела, каждое новое поступление порождает проблему и может потребовать нового принципа систематизации. Но ведь в конечном счете библиотека бесконечна. Эту фразу я позаимствовал у Зандера, а он, мне кажется, у Борхеса» [Шимманг 2013, 55].
Согласно точке зрения А. Ассман, «музей, архив или научная библиотека является культурным институтом, где общество хранит реликты и следы прошлого после того, как они теряют живую связь со своими прежними контекстами. К числу таких предметов относятся книги, письма, рукописные свидетельства, а также картины, фотографии и другие медиальные носители информации. Выпадая из прежнего функционального контекста, они становятся безмолвными свидетелями прошлого» [Ассман 2014, 54]. Книги - это вместилище культурной памяти, источник сакрального знания, благодаря которому человечество сможет избежать ошибок прошлого. Неслучайно А. де Компаньон утверждал, что «в мире конца века, все более подвластном материализму или анархизму, литература оказывалась последним оплотом против варварства, точкой опоры» [Компаньон 2001, 43].
Однако планы шимманговских идеологов библиофилизма не воплотились в реальность. Группировка молодых людей, сторонников диктатуры Генерала Роткирха, совершает поджог здания и фондов, находящихся в нем. Приверженцы хунты оказываются несогласными с тем, что на прежнем месте проживания лидера восстания, «средоточии зла», как пишет И. Шимманг, был воздвигнут социальный институт просвещения. Но, как ни парадоксально, книги оказались не тронуты огнем. По ироничному замечанию Ульриха, «книги не так-то просто поджечь, вопреки романтическим литературным описанием пожаров в библиотеках» [Шимманг 2013, 237]. Немецкий прозаик стремится полемически заострить внимание на идеях, представленных в романе-антиутопии «451° по Фаренгейту» (“Fahrenheit 451 ”, 1953) Р. Бредбери. Для поджога берлинской библиотеки, как и тексте американского писателя, используются специальные воспламенители - огнеметы «Шнайдер 22», являющиеся лучшим оружием и обладающие высокой температурой огня, но и их возможностей оказывается недостаточно для осуществления замысла сторонников хунты. Вместе с тем, И. Шимманг следует идеям, представленным в романе Р. Бредбери, о том, что книжная культура способствует развитию свободомыслия и либеральных ценностей, а это в свою очередь противоречит идеологии тоталитарного государства.
Кай Зандер, руководитель проекта по строительству библиотеки «Старые фонды», разделяет мысль аргентинского писателя Х-Л. Борхеса о том, что библиотека - это земной рай. Зандер - герой-библиофил, для которого книжное знание является высшей ценностью в жизни. Несмотря на то, что герой неоднократно предостерегает Ульриха от главной ошибки библиотекаря (предаваться беспрерывному, упоенному чтению литературы), ему самому тяжело противиться искушению. После попытки поджога архива, а также потерянного со стороны жителей города интереса к хранилищу, герой вынужден закрыть библиотеку, предавшись аскетическому существованию.
Деятельность героев, построивших на городских руинах храм знаний, обернулась крахом. Ульрих Андерс, разочаровавшись и в своем наставнике, и в своих друзьях, покидает берлинскую библиотеку, без ложных иллюзий отправляясь в «большое путешествие» [Шимманг 2013, 343]. Кай Зандер становится единовластным хранителем библиотеки: «Я останусь один. Библиотека будет открыта для всякого, кому нужны книги. Я всегда на месте. Но по сути дела она принадлежит библиотекарю. Он ее хранитель, ее пастырь» [Шимманг 2013, 332]. Таким образом, проект воспитания нового человека не увенчался успехом: библиотека не выполнила возложенную на нее функцию института просвещения. Несмотря на это, ее духовный наставник остался в стенах книжного хранилища, ожидая пришествия избранных - читателей, стремящихся получить доступ к сокровенным знаниям.
Подводя итог, отметим, что «Новый центр» И. Шимманга является выразительным образцом историоцентричного романа, проблематика и сюжетная организация которого определяется интенцией авторской мысли о прошлом - при отсутствии непосредственного изображения реальных исторических событий. И. Шимманг переносит действие своего романа в будущее, однако через систему историко-культурных аллюзий «привязывая» его к прошлому и так воплощая идею о нерасторжимой связи времен. Немецкий писатель вновь акцентирует внимание на ключевой проблеме немецкой истории XX в. - проблеме непреодоленного прошлого (unbewaltigte Vergangenheity Именно на фоне обсуждений вопросов о коллективной вине немцев, общенациональном извлечении уроков из истории, и складывается рефлексия не только о национальном пути страны, но и сам историоцентричный роман. В связи с этим цель историоцентричного романа - это поиск идей и возможностей, опираясь на которые можно не допустить повторение исторической катастрофы, «иммунизировать <...> общество от рецидивов» [Ассман 2019, 163].
Список литературы Историоцентричный роман: к постановке проблемы
- Андреев Л.Г. От «заката Европы» к «концу истории» // «На границах». Зарубежная литература от средневековья до современности / под ред. Л.Г. Андреева. М.: Экон, 2000. С. 240-255.
- Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Ассман А. Забвение истории - одержимость историей / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Барнс Дж. История мира в 10 ^ главах: роман. СПб.: Азбука, 2019.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула, 2013.
- Бреева Т.Н. Жанровая специфика историософского романа в русской литературе ХХ века // Филология и культура. 2010. № 20. С. 138-147.
- Грошева Г.В. К вопросу о периодизации процесса трансформации национальной идентичности в Германии второй половины ХХ-ХХ1 в. (по материалам Российской историографии) // Сибирские исторические исследования. 2014. № 1. C. 33-48.
- Компаньон А. Демон теории: литература и здравый смысл / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: издательство им. Сабашниковых, 2001.
- Кучумова Г.В. Немецкоязычный роман рубежа XX-XXI вв.: проблема Другого. Самара: Самарама, 2019.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2 т. Т. 2: 1968-1990. М.: Academia, 2003.
- Мостобай Т.Ф. «Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза как первый английский историографический метароман // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 164-168.
- Рейнеке Ю.С. Исторический роман постмодернизма и традиции жанра (Великобритания, Германия, Австрия): дис. ... к. филол. н.: 10.01.03. М., 2002.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. М.Б. Левина. M.: АСТ; Ермак, 2004.
- Шимманг Й. Новый центр: роман / пер. с нем. И. Алексеевой. СПб.: издательство Ивана Лимбаха, 2013.
- Шубина А.В. Проблема биографического жанра в творчестве Питера Акройда: автореф. дис. ... к.. филол. н.: 10.01.03. Санкт-Петербург, 2009.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. СПб.: Алетейя, 1998.
- De Groot J. The Historical Novel. The New Critical Idiom. London: Routledge, 2010.
- Frye C. Carl Schmitt's Concept of the Political // The Journal of Politics. 1966. Vol. 28, № 4. P. 818-830.
- Holmes F. The Historical Imagination: Postmodernism and the Treatment of the Past in Contemporary British Fiction. Victoria: University of Victoria Press, 1997.
- Hutcheon L. Postmodern Paratextuality and History // Texte-Revue de Critique et de Theorie Literaire. 1986. № 5-6. P. 301-312.
- Hutcheon L. Historiographic Metafiction. Parody and the Intertextuality of History // Intertextuality and Contemporary American Fiction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. P. 3-32.
- Lyotard J.-F. Answering the question: what is the postmodern? // The Postmodern Explained to Children. Sydney: Power Publications, 1992.
- Shimmang J. Neue Mitte. Roman. Hamburg: Edition Nautilus, 2011.