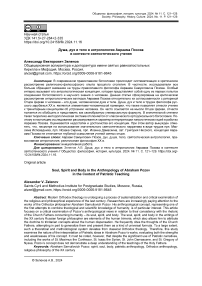Историография формирования советской интеллигенции на Северном Кавказе (1920-1980-е гг.)
Автор: Абрегова Ж.О., Почешхов Н.А., Шхачемуков Р.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Важнейшей проблемой истории культурной революции у народов Северного Кавказа, впрочем как и культурного строительства в целом, стало изучение закономерностей становления и развития советской интеллигенции, в том числе на Северном Кавказе. Определяющее влияние на изучение данной темы оказали работы В.И. Ленина, решения партийных съездов, конференций и совещаний по вопросам кадровой политики. Первые работы по истории формирования северокавказской интеллигенции появились в 1920-е гг. Это были статьи и брошюры по вопросам, отражавшим текущие проблемы подготовки национальных кадров. Несмотря на малочисленность национальной интеллигенции, в них признавалось ее прогрессивное влияние на различные сферы общественной жизни. Подготовка новой интеллигенции рассматривалась как фактор, непосредственно ускоряющий осуществление социалистического переустройства экономики, культуры и быта горцев.
Историография, национальные кадры, интеллигенция, культурная революция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147053
IDR: 149147053 | УДК: 930.2(470.62/.67)“192/198” | DOI: 10.24158/fik.2024.11.17
Текст научной статьи Историография формирования советской интеллигенции на Северном Кавказе (1920-1980-е гг.)
,
Saints Cyril and Methodius Institute for Postgraduate Studies, Moscow, Russia, ,
Введение . Актуальность исследования обусловлена современным кризисом знания о человеке. Многих мыслителей занимал и продолжает волновать вопрос о том, что такое человек. Прошлое столетие отмечено значительным накоплением информации о человеке и его бытии. Однако ответить на данный вопрос исследователи так и не смогли. При этом определенно произошла интенсификация развития антропологии – науки о человеке как междисциплинарной единице, которая стала бы методической опорой для других дисциплин, которые затрагивают указанный вопрос. Но стоит признать, что на настоящий момент светская антропология в значительной степени отражает социологическую проблематику и ориентирована на освещение вопросов устройства и функционирования общества, а также взаимодействия человека и общества (Лоргус, 2003: 11).
В тот момент, когда антропологи обращаются к исследованию «Я» человека, дисциплина неуклонно сводится к рассмотрению психических функций индивида1, что также не позволило дать полноценный ответ о сущности человека. Здесь стоит думать, что антропология нуждается в методологической основе, которая смогла бы сформировать необходимый фундамент для объяснения вопросов, связанных с человеком. В этом аспекте православная антропология отличается тем, что предметом рассмотрения является человек, которого сотворил Бог по своему образу и подобию. В христианской антропологии уделяется внимание вопросам спасения – пути человека к Богу. Поэтому в фокусе внимания оказывается не только реальный человек в его телесном воплощении, но и весь его богооткровенный и мистический опыт.
В этом отношении научное знание выглядит несколько секуляризованным, так как большая часть светских наук выросла на основе христианской парадигмы изъяснения человеческой природы (Шеховцова, 2011: 23‒25). Только в XX в. в результате масштабного духовного кризиса нормативная функция христианства была утрачена (Шмонин, 2018: 72‒75). В тот же момент мир обогатился огромным количеством знаний о человеке, для систематизации которых требуется методологическая и методическая основа. Данная динамика определила характер духовных поисков прошлого столетия. В частности, внимание привлекает антропологическая теория, разработанная представителем религиозно-философской мысли XX в. русского зарубежья Авраамом Самуиловичем Позовым. Сформулированная им теория является одним из первых примеров попытки соединить теологические знания, а также научные данные о человеке.
Мыслитель использовал святоотеческую антропологию и богословскую догматику в качестве методической основы для ответа на вопрос: что такое человек? При этом он также предпринял попытку сформировать образ человека, который бы не противоречил ни научной, ни богословской системе представлений о человеке; объединить их и систематизировать, представив в едином комплексе. Несмотря на бесспорную важность концепции, представленной А.С. Позо-вым, она также нуждается в критическом рассмотрении относительно положений святоотеческой антропологии, поскольку в его теории наблюдается обилие противоречий, которые требуют разрешения и осмысления с точки зрения богословия и православной антропологии.
Интерес к теме данного рассмотрения связан с общей проблематикой православной антропологии. Как отметил Владимир Николаевич Лосский, за все время существования православного богословия вопросы антропологического характера так и не были разработаны в достаточной степени (Лосский, 2006: 447). Многие Отцы Церкви в своих трудах так или иначе затрагивали аспекты, связанные с православной антропологией, что позволило накопить обширный нарратив богословской литературы. Однако стоит согласиться с В.Н. Лосским в том, что антропология присутствовала в православном богословии в том или ином виде, но как отдельная дисциплина она так и не была представлена (Лосский, 2006: 447).
Священник Андрей Лоргус, уделивший внимание указанному вопросу, отметил, что разработка православной антропологии, как самодостаточной дисциплинарной единицы, невозможна без исследования святоотеческого наследия и критического рассмотрения антропологических вопросов (Лоргус, 2003: 11‒30). Он указал на то, что многие положения православной антропологии не являются догматизированными (Лоргус, 2003: 11‒30), что обязывает богословов внимательно и осторожно относиться к различным антропологическим концепциям. Данная методологическая позиция принята в этом исследовании для рассмотрения антропологической концепции А.С. Позова.
Основой методологии исследования является богословский подход.
Цель данной статьи ‒ анализ аспектов концепции А.С. Позова, затрагивающих «душу», «дух» и «тело» человека, относительно святоотеческого учения. Задачей исследования является критическое рассмотрение антропологической системы, представленной А.С. Позовым в виде тримерии.
Обращаясь к рассмотрению историографии теории А.С. Позова, можно заметить крайне небольшой круг исследований, представленных в критическом формате. Это связано с тем, что труды мыслителя относительно недавно начали привлекать внимание исследователей, и фундаментальных трудов по теме нет. Однако стоит отметить, что рассмотрение отдельных аспектов концепции А.С. Позова уже началось.
В частности, к рассмотрению вопроса обратился Юрий Михайлович Зенько. У данного исследователя существует ряд публикаций (Зенько, 2007; 2023), в которых затрагивается проблематика антропологических взглядов А.С. Позова в контексте святоотеческого учения. Автор обращается к этой теме и в статье «Древне-церковная антропология Авраама Позова (1890‒1984): pro et contra» (Зенько, 2023: 5‒19). Признавая всю актуальность затрагиваемых проблем, Ю.М. Зенько также отметил, что труды мыслителя прошлого века сочетают не только христианский опыт, но и мистицизм, что требует осторожного отношения к положениям, которые выдвинул А.С. Позов. Кроме того, существуют значительные расхождения с догматическим богословием (Зенько, 2023: 5‒19).
Критически к идеям А.С. Позова отнесся и протопресвитер Иоанн Мейендорф в статье «Православие в современном мире» (Мейендорф, 1995). Он также признал, что А.С. Позов, не имея фундаментального богословского образования, был склонен к заблуждениям и зачастую интерпретировал христианские догматы, а также учения Отцов Церкви неверно или однобоко (Мейендорф, 1995: 76‒77).
В исследованиях Н.К. Гаврюшина представлен критический взгляд на концепцию, сформулированную А.С. Позовым (Гаврюшин, 1996; 2005). Бывший профессор Московской духовной академии отметил, что рассуждения А.С. Позова в значительной степени отклоняются от существующей православной традиции. При этом его труды полны противоречивых моментов, что также позволило Н.К. Гаврюшину указать на то, что следует осторожно относится к заявлениям А.С. Позова (Гаврюшин, 1996: 140‒153). Сам исследователь не был склонен рассматривать А.С. Позова как представителя религиозной православной мысли прошлого века.
Отчасти о том, что А.С. Позов в значительной мере уклонился от православной традиции в ходе формулирования своей концепции, говорит автор предисловия к монографии «Основы древнецерковной антропологии» С.А. Ершов (2008: 5‒18). Он отметил неверное понимание А.С. Позовым догмата Триединства, а также нехарактерное для православной антропологии изложение мыслей. Однако С.А. Ершов также отметил, что поднятая А.С. Позовым проблематика важна для дальнейшего развития православной антропологии, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие православной религиозной мысли (Ершов, 2008: 5‒18).
Критический взгляд на главный труд А.С. Позова «Основы древнецерковной антропологии» представлен в рецензии К.А. Махлака1. Автор рецензии, проанализировав данную работу, пришел к заключению, что выводы, которые сделал А.С. Позов, часто не имеют под собой основательной доказательной базы, что снижает степень доверия к ним. К.А. Махлак также отметил, что А.С. Позов проигнорировал важные методологические и методические аспекты исследовательской работы. В частности, он не принял во внимание ни время написания трудов Отцов Церкви, ни место их проживания, что также важно для оценки взглядов святых отцов2.
На этом скромном перечне круг критических рассмотрений антропологической концепции А.С. Позова практически заканчивается. Важная в историографическом отношении статья «Христианский мыслитель Авраам Самуилович Позов» Н.С. Рыбакова3 не содержит критического анализа. Однако на данный момент эта публикация представляет собой наиболее полный обзор тримерической системы, сформулированной А.С. Позовым.
При рассмотрении историографии исследования трудов А.С. Позова стоит отметить, что его идеи привлекли внимание и светских исследователей – О.И. Александрову (2018: 46‒52) и Р.В. Тихонова (2011: 91‒93). Однако данные работы представлены в дискурсе философского и религиоведческого знания, что не позволило авторам сделать какие-либо выводы относительно характера исследования А.С. Позова касаемо православной антропологии.
Таким образом, можно считать, что современные исследователи склонны скептически относиться к теории А.С. Позова, что в значительной степени связано с нарушением автором ряда принципов научного исследования. Однако также значительная часть исследователей отметила актуальность вопросов, поднятых А.С. Позовым для современной православной антропологии и православной психологии.
Основная часть . Пытаясь ответить на вопрос: какова природа человека или что такое человек, богословы неуклонно приходят к проблеме его состава, которая является одной из значимых тем в христианской антропологии. Связано это с тем, что вопрос достаточно сложный, а также с обилием представленных в теологической литературе мнений. Часто встречается разделение существующих теорий о строении человека на дихотомические и трихотомические концепции.
Первая – дихотомическая концепция ‒ определяет, что человек состоит из «души» и «тела». Данной точки зрения придерживались богослов второй половины II – начала III вв. Климент Александрийский, христианский теолог конца II – первой половины III вв. Ориген, богослов IV в. свт. Василий Великий, богослов VII – VIII вв. преп. Иоанн Дамаскин (Лоргус, 2003: 13). Можно сказать, что еще на ранних этапах христианского богословия была утверждена точка зрения о человеке как о единстве тела и души. Позднее данное мнение не утратило своей актуальности и сохранилось в православном богословии (Лоргус, 2003: 13). Однако это не означает, что не предпринималось попыток расширить концепцию о составе человека. В частности, одну из самых структурированных схем представил преп. Максим Исповедник (Лоргус, 2003: 13).
Более расширенная схема восходит к учению апостола Павла о тройственном составе человека: «души, духа и тела»1. Однако при рассмотрении этой условной типологии стоит отметить, что данное разделение не всегда уместно, так как святые отцы часто под «духом» подразумевали высшую часть души (Архимандрит Киприан (Керн), 1996: 323). Хотя верно и то, что трихотомические учения не являются чем-то новым. Например, богослов IV в. свт. Григорий Нисский считал, что строение человека трехчастно (Григорий (еп. Нисский), 1861: 309).
Исследователь антропологической системы, представленной богословом XIV в. свт. Григорием Паламой, ‒ архим. Киприан (Керн) также сделал важный вывод относительно святоотеческой антропологии, указав, что часто святые отцы могли приводить в своих текстах как двухчастное строение человека, так и трехчастное (Архимандрит Киприан (Керн), 1996: 323). Свящ. Андрей Лоргус также указал на то, что двухсоставные схемы часто подразумевают под собой более сложное внутреннее деление (Лоргус, 2003: 12‒13). Классификация теорий святоотеческой антропологии, связанных с объяснением состава человека, появилась позднее и является результатом более позднего осмысления антропологических взглядов Отцов Церкви. В период, когда большая часть святоотеческих учений и трактатов была написана, никакого разногласия относительно двусоставной или трехсоставной природы человека не наблюдалось.
В антропологии А.С. Позова оба подхода были соединены. Прежде всего, стоит рассмотреть дихотомическую часть концепции А.С. Позова и осветить основные ее расхождения с христианской антропологией.
Опираясь на положение Священного Писания «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1), А.С. Позов склонен видеть мироустройство в виде дихотомии небесного (интеллигибельного) и земного планов. Поэтому он указывает на два плана человека – на внешний и внутренний, что в его антропологической концепции связано с духовным развитием, а через него ‒ с проблематикой спасения человека: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16).
Данное иерархическое разделение хорошо известно христианскому богословию и православной антропологии. В частности, у христианского аскета второй половины V – первой половины VI вв. преп. Исаии Скитского в подвижнических словах есть разделение на человека «внешнего» и «внутреннего». При этом человек «внешний» ‒ это телесная часть, тогда как под «внутренним» подразумевалась человеческая душа (Лоргус, 2003: 15).
Более подробное объяснение обнаруживается в «Подвижническом слове» преподобного Исаака Сирина, представителя христианской мысли более позднего периода – второй половины VII в.: «Пока внешний человек не умрет для всего мирского, не только для греха, но и для всякого телесного делания, а также и внутренний человек ‒ для лукавых мыслей, и не изнеможет естественное движение тела до того, чтобы не возбуждалась в сердце греховная сладость, дотоле и сладость Духа Божия не возбудится в человеке…»2. Здесь можно видеть некоторое отличие от более ранних рассуждений преп. Исаии Скитского, так как внимание направлено не только на преодоление желаний «внешнего» человека, но и на устранение греховных помыслов у «внутреннего» человека. При этом концепция преп. Исаака Сирина видится более полной, поскольку предполагает параллельное очищение как тела («внешнего» человека), так и души («внутреннего» человека).
Рассмотрение монографической работы А.С. Позова показало, что он в формулировании одного из основополагающих аспектов своей теории, включающего иерархию развития в виде «внешнего» и «внутреннего» человека, опирался на самые ранние воззрения относительно их иерархичности, а также принципа подчинения «внешнего» человека «внутреннему» (Позов, 2008: 24). При этом он отметил, что после грехопадения человека изначальная гармония была утрачена, что привело к дисгармонии тела и души (Позов, 2008: 76). Возвращение к изначальной гармонии является частью пути к Богу и спасению (Позов, 2008: 107).
А.С. Позов отметил, что, поскольку «внешний» человек ‒ это человек телесный, то начало развития духовности должно происходить на внутреннем плане, через душу и дух. Развивая внутренний план, человек избавлялся от дисгармонии. Обратная же ситуация наблюдалась, когда он поддавался желаниям «внешнего» человека, что препятствовало возвращению гармонии и спасению (Позов, 2008: 107). Стоит отметить, что А.С. Позов указал на первичность внутреннего одухотворения. Это является несомненным достоинством его теории. Постепенно внутреннее развитие должно привести человека в состояние покоя, к согласию всей его тримерии и направить его на путь к Богу. Однако истинное спасение достигается в теле, так как человек изначально был создан с телом (Позов, 2008: 217).
Отдельно стоит отметить, что во многом эти взгляды А.С. Позова основываются на антропологической концепции Моисея, которую мыслитель считал наиболее достоверной (Позов, 2008: 23). В значительной степени это мнение повлияло на выводы А.С. Позова относительно телесности человека и его связи с земным планом.
Изначальную «релятивную диаду бытия» (Позов, 2008: 25) А.С. Позов попытался представить как телесную и душевную дихотомию человека в качестве векторов развития. Начиная свои изъяснения с основ творения (Быт. 1,1), он отмечает, что изначальная диада неба и земли нуждалась в триадизации, так как сам Бог имел три ипостаси и все изначально подчинялось принципу Троичности. Это стремление, по утверждению А.С. Позова, определило появление Первого Ангела, дополнившего диаду Бога и неба, а также первого человека – Адама, который стал частью триады Бога и земли. После этого бытие стало троичным, состоящим из Бога, Мира и Человека (Позов, 2008: 26‒30). Человек же, подчиняясь принципу троичности, был представлен триадой из духа, души и тела, подобно тому, как Бог имел свои ипостаси (Позов, 2008: 27).
Как можно видеть, А.С. Позов значительно отклонился от христианской традиции. Прежде всего стоит отметить, что догмат Триединства, взятый мыслителем в качестве основы, трактуется неправильно. Да, без сомнения, Бог имеет три ипостаси, однако у человека их нет. Это фундаментальная ошибка, допущенная А.С. Позовым на раннем этапе обоснования своей теории. Здесь стоит отметить, что, несмотря на важность догмата Триединства, он не является системой, объясняющей мироустройство, что также можно рассматривать в качестве одного из существенных заблуждений А.С. Позова. Как отметил Ю.М. Зенько, тринитарная система сделала А.С. По-зова заложником и обязала подстраивать под нее факты, лишая автора критического видения (Зенько, 2023: 5‒19).
Тримерия человека из духа, души и тела не только определяет состав человека в антропологии А.С. Позова, но также имеет иерархическую структуру. При этом сам А.С. Позов указывает, что компоненты тримерии полностью не сообщаются друг с другом. Однако они связаны между собой посредством взаимодействия отдельных компонентов (Позов, 2008: 31‒39). Например, дух в концепции А.С. Позова занимает наивысшее положение. Он трехчастен и состоит из ума, воли и силы, которые также располагаются в иерархическом порядке. Первостепенное значение имеет духовный ум, который имеет связь с небесным планом. Именно посредством него происходит духовное развитие. Духовный ум связан с душевным умом, что определяет связь между духом и душою (Позов, 2008: 31‒39). В этой концепции существуют моменты, на которые следует обратить первостепенное внимание относительно верности трактовки А.С. Позовым учений Отцов Церкви.
В христианской антропологии святоотеческого периода не было разработано учения о трехсоставности духа. Поэтому А.С. Позов, пытаясь вывести формулу из трех компонентов, которые бы составили дух, опирается на учения преп. Иоанна Дамаскина, преп. Максима Исповедника, преп. Григория Синаита.
А.С. Позов пишет, что преп. Иоанн Дамаскин различал три силы духа – ум, волю и силу (Позов, 2008: 34). Однако в первоисточнике, «Изложении православной веры» преп. Иоанна Дамаскина, таких тезисов нет (Иоанн Дамаскин: 1992: 31, 47). Сам преп. Иоанн Дамаскин отметил, что понятие «дух» многозначно, что и ветер, и вода могут быть духом (1992: 31, 47). Тем не менее никакой развернутой концепции о тройственности способностей в его труде не представлено. Напротив, в сочинении преп. Иоанна Дамаскина помещается пояснение о том, что же представ- ляет собой дух человеческий. Преподобный под «духом» (πνεύμα) понимал разумную часть человеческой души, которая имела энергетический характер. Дух в его учении выступает в качестве повсеместно распространенной энергии, связывающей материальное с небесным планом. Последнее также выражается в стремлении духа к Богу.
Преп. Иоанн Дамаскин также различает «ум» (νοῦς) и «разум» (λόγος). Первый определяется как высший компонент души, который направлен на осмысление Божественного. Этот же компонент превращается в «разум», когда человек обращается к осмыслению тварного мира, становясь интуитивной формой познания (Иоанн Дамаскин: 1992: 31, 47).
Можно заметить, что учение преп. Иоанна Дамаскина существенно отличается от интерпретации, предложенной А.С. Позовым. Из концепции преп. Иоанна Дамаскина А.С. Позов определенно позаимствовал тезис об энергийной сущности духа, а также то, что с помощью духа человек обращается к познанию Бога. При этом, выделяя силу как часть тримерии духа, А.С. По-зов подчеркивает связь с духовным энергийным миром. В дальнейшем наблюдаются существенные расхождения в интерпретации. Дух в антропологии А.С. Позова – это самостоятельный компонент тримерии человека, тогда как у преп. Иоанна Дамаскина он в традициях святоотеческой литературы определяется как часть души (Иоанн Дамаскин: 1992: 31, 47).
Дух, как часть души, всегда стремится к познанию Бога, как отметил преп. Иоанн Дамаскин (1992: 31, 47). Возможно, эту точку зрения А.С. Позов посчитал признаком существования духовного ума, не зависящего от души, но точных пояснений в его работе не представлено. Относительно третьего компонента духа – воли, в сочинении преп. Иоанна Дамаскина вообще ничего не говорится. Стоит думать, что характер интерпретации святоотеческого учения, представленный А.С. Позовым, в значительной степени отличался от изначального.
При формулировании концепции троичности духа А.С. Позов ссылался на изречение преп. Максима Исповедника о том, что разум, воля и сила являются силами, направляющими к «созерцанию духовного» (Максим Исповедник, 2008: 117). В тот же момент стоит указать на то, что преп. Максим Исповедник использовал данные пояснения для изъяснения способностей и состава души, а не духа. Про дух преп. Максим Исповедник говорил, что без него человек не может созерцать духовное, так как человеческий ум не может познать Божественное без духа. Человек же, по мере его Богопознания и приближения к Богу, способен посредством духа преобразить свою природу (Максим Исповедник, 2008: 117). Можно предположить, что именно на взгляды преп. Максима Исповедника опирался А.С. Позов при описании сотериологических способностей духа. Относительно состава духа наблюдаются существенные различия с учением преп. Максима Исповедника.
Другим Отцом Церкви, на которого в своем труде опирается А.С. Позов, является преп. Григорий Синаит, тезисы которого подверглись существенному искажению. Цитата преподобного: «Ум – Отец, Слово – Сын, Дух же Святой – подлинно Дух» (Григорий Синаит, 1900: 197), которую он использовал в качестве объяснения состава души, А.С. Позов привлек к объяснению троичности человека и человеческого духа. Хотя преп. Григорий Синаит придерживался убеждения, что дух наряду с умом и словом является частью состава души (Григорий Синаит, 1900: 197).
Приведенные примеры достаточно отчетливо доказывают вольный характер интерпретации святоотеческих взглядов. Из всех перечисленных только преп. Максим Исповедник считал, что дух проистекает из гармонии души и тела (Максим Исповедник, 2008: 123). Преп. Иоанн Дамаскин и преп. Григорий Синаит придерживались мнения о том, что дух являлся частью души. Хотя богословы признавали, что дух обладал собственной познавательной и созерцательной способностью, ни один из них не выделил духовный ум в качестве отдельного компонента, как это сделал в своей работе А.С. Позов (2008: 31‒39).
В святоотеческой литературе нет тезисов о воле и силе как компонентах духа. Однако именно такую триаду использовал преп. Максим Исповедник для объяснения триады души (2008: 123). Скорее всего, А.С. Позов, отталкиваясь от того, что дух был связан с душой, представил дух как самостоятельную часть человека, находящуюся в его душе и обладающую собственными духовными компонентами – умом, волей и силой. Однако для упорядочения собственной тринитарной концепции А.С. Позов в значительной степени исказил первоначальные источники, что является существенным методическим и методологическим нарушением и не отвечает принципам истинного богословия. Хотя, стоит признать, что очевидным достоинством работы А.С. Позова является попытка соединить различные святоотеческие взгляды и определить место духа в составе человека, а также его сотериологическую роль. По крайней мере, достаточно сложно представить любое духовное развитие без волевых и энергетических усилий со стороны человека, что также относится к проблематике православной аскетики, которую разрабатывал А.С. Позов.
В центр иерархии тримерии человека А.С. Позов поместил душу. Компонентами иерархии души являются душевный ум, воля и сила. Примечательно, что А.С. Позов достаточно подробно останавливается на описании двух возможных планов воплощения этих элементов. Душевный ум, связываясь с духовным, становится свободным, проявляется его изначальная божественная природа. Однако без духовного развития душевный ум склонен подчиняться чувствам, которые обращены во внешний мир, что удаляет человека от спасения (Позов, 2008: 149‒184). Таким образом, чувства могут быть обращены к духовному или телесному плану. Сила, как последний элемент тримерии души, также может проявиться в зависимости от того, относительно какого плана развивается человек. Он может направить силы на духовное совершенствование или на реализацию телесных побуждений (Позов, 2008: 36‒45). Здесь, по-видимому, А.С. Позов пытается расширить и применить к своему тринитарному уравнению концепцию преп. Максима Исповедника о том, что посредством духа человек может изменить свою природу (Максим Исповедник, 2008: 156). Хотя в данном случае речь идет не об изменении природы, а о гармонизации тримерии человека посредством его одухотворения и возвращения к своему первозданному состоянию (Позов, 2008: 316).
В христианской антропологии существует представление о нескольких онтологических уровнях бытия человека – земного и духовного (Лоргус, 2003: 21). Подобную точку зрения можно обнаружить в трудах преп. Иоанна Дамаскина, свт. Григория Нисского, свт. Григория Паламы (Архимандрит Киприан (Керн), 1996: 234). Однако А.С. Позов эту концепцию использует относительно состава человека, помещая тело в земной план, а дух и душу ‒ в небесный (Позов, 2008: 38‒46). В данном отношении также можно наблюдать методологическое нарушение и смешение двух отдельных концепций.
Часть антропологии А.С. Позова, в которой описываются компоненты души, является наиболее ортодоксальной из всех тезисов, которые были им выдвинуты. Концепция о трехчастном строении души достаточно часто встречается в святоотеческой антропологии и существенных расхождений с христианской литературой тут нет. Однако, обращаясь к описаниям свойств и способностей души, а также компонентов ее тримерии, опять можно наблюдать смешение разных концепций. В частности, воля и силы души по какой-то причине больше подвержены телесным чувствам, так как сообщаются с телом человека (Позов, 2008: 76).
Стоит также отметить, что, доказывая трансцендентные свойства души, А.С. Позов опирался на не совсем ортодоксальные труды христианского мыслителя Оригена. С этой точки зрения, душа человека в известном нам виде появилась от угасания божественного огня, но она также может вернуться в изначальное состояние1. Эту мысль А.С. Позов смешал с представлениями преп. Максима Исповедника о том, что природа человека посредством приближения духа к Богу может быть изменена (Максим Исповедник, 2008: 117). Подобный синтез, конечно, недопустим, так как речь идет о совершенно разных вещах.
Одним из самых сложных и неоднозначных аспектов теории А.С. Позова является схема тримерии тела, которое, по убеждению мыслителя, состоит из «нервной системы, крови и лимфы» (Позов, 2008: 63). Данный выбор компонентов тримерии достаточно спорен, так как явно не отражает полный состав тела человека (Зенько, 2023). Однако, поскольку А.С. Позов опирался на принцип троичности, он был вынужден ограничиться только тремя элементами. Нервная система человека в его концепции является воплощением духовного механизма в материальном плане. Кровь также являлась телесной формой воплощения души, так как функции крови в человеке во многом совпали с функциями души относительно ее роли посредника между телом и духом. Лимфа – последний элемент телесной тримерии, который также тождественен телу, олицетворяя его основу (Позов, 2008: 65).
Таким образом, схема, которую предложил А.С. Позов, не только троична, но и дихото-мична относительно «внешнего» и «внутреннего» планов человека. Поэтому каждый элемент тримерии также дихотомичен относительно характера его воплощения. Свящ. Андрей Лоргус указал на то, что система, созданная А.С. Позовым, является примером одной из самых подробных тринитарных концепций. Не только человек тринитарен, но и компоненты его тримерии также имеют трехчастный состав, что представляет уже девятичастную структуру (Лоргус, 2003: 78). Однако анализ концепции А.С. Позова в контексте святоотеческого учения демонстрирует, что значительная часть тезисов Отцов Церкви в ходе составления тримерической системы человека была неправильно интерпретирована А.С. Позовым.
Список литературы Историография формирования советской интеллигенции на Северном Кавказе (1920-1980-е гг.)
- Алиев У. Книгоиздательское дело на национальных языках Северного Кавказа // Записки Горского краевого научно-исследовательского института. 1928. Т. 1. С. 236-243.
- Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северо-Кавказском крае: итоги и перспективы. Ростов н/Д., 1926. 128 с.
- Бегеулов А. Наболевшие вопросы народного просвещения и задачи подготовки кадров для нацобластей // Революция и горец. 1930. № 8. С. 10-22.
- Бекижев М.М. Формирование социалистической интеллигенции у народов Северного Кавказа (1917-1941 гг.). Черкесск, 1978. 285 с.
- Веревкин Л.П. Высшее образование как фактор выравнивания социальной структуры национальных отрядов интеллигенции (на материалах Чечено-Ингушетии) // Советская интеллигенция и ее роль в коммунистическом строительстве в СССР: тез. всесоюз. конф. / отв. ред. С.А. Федюкин. М., 1979. Т. 1.
- Викторов Х.Ф. К вопросу подготовки технических и массовых кадров для народного хозяйства края // Социалистическое строительство Северо-Кавказского края. 1935. № 5.
- Волков В.С. Подготовка национальных кадров социалистической интеллигенции как составная часть культурной революции в СССР (ноябрь 1917 - конец 30-х гг.) // Интеллигенция и социалистическая культурная революция: сб. науч. тр. / отв. ред. А.Я. Лейкин. Л., 1975.
- Гадиев А. За качество работы нашей школы // Социалистическое строительство Северо-Кавказского края. 1935. № 1.
- Глухов Г. Проблема кадров: по материалам обследования Северо-Кавказской краевой РКИ. Ростов н/Д., 1930. 77 с.
- Ермаков В.Т. Советская интеллигенция как предмет исторического изучения (к постановке вопроса) // Советская интеллигенция и ее роль в коммунистическом строительстве в СССР: тез. всесоюз. конф. / отв. ред. С.А. Федюкин. М., 1979. Т. 1. С. 13.
- Каймаразов Г.Ш. Культурное строительство в Дагестане 1920-1940 гг. Махачкала, 1960. 183 с.
- Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана: от времени присоединения к России до наших дней. М., 1971. 475 с.
- Катунцева Н.М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 1977. 206 с.
- Козьминых Г. Ленинский учебный городок Кабардино-Балкарской автономной области // Народное просвещение. 1925. № 3. С. 136-141.
- Литвиненко Н.И. Подготовка национальных кадров в Чечено-Ингушетии (1928-1933 гг.). Грозный, 1966. 36 с.
- Нагучев Д.М. Дорогой знаний (рост советской интеллигенции в Адыгее). Майкоп, 1974. 102 с.
- Сабанчиев Х.М. Создание советской интеллигенции в Кабарде // Сборник статей по истории Кабарды. Вып. 2. Нальчик, 1951. С. 121-158.
- Самарский А.Я. Культурная революция и кадры культурников-националов // Записки Северокавказского краевого горского научно-исследовательского института. 1928. Т. 1. С. 205-214.
- Самарский А.Я. Рабфаки и горская молодежь // Революция и горец. 1930. № 6-7. С. 73-78.
- Хакуашев Е.Т. Кузница большевистских кадров Кабардино-Балкарии // Ленинский учебный городок - коммунистическая кузница кадров Кабардино-Балкарии: сб. воспоминаний и документов / сост. Е.Т. Хакуашев. Нальчик, 1964.
- Хачиров А.К. О формировании осетинской интеллигенции. Орджоникидзе, 1964. 96 с.
- Хурин П.А. На рубеже второй культурной пятилетки Северного Кавказа. Ростов н/Д., 1932. 44 с.
- Шеуджен Э.А. Национальная культура: общие подходы // Путь в историю: в поисках методологии исследования. Майкоп, 2007. С. 80-92.
- Эфендиев А.-К.И. Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.). Махачкала, 1960. 155 с.