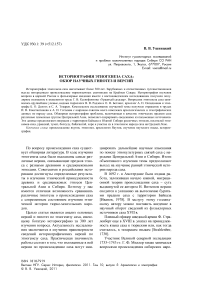Историография этногенеза Саха: обзор научных гипотез и версий
Автор: Ушницкий Василий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Историография этногенеза саха насчитывает более 300 лет. Зарубежных и отечественных путешественников всегда интересовало происхождение тюркоязычных скотоводов на Крайнем Севере. Историография изучения вопроса в царской России и фольклорные сведения вместе с востоковедческим исследованием получили популярное изложение в знаменитом труде Г. В. Ксенофонтова «Ураанхай сахалар». Вопросами этногенеза саха занимались крупнейшие ученые, видные тюркологи В. В. Радлов и О. Н. Бетлинг, археолог А. П. Окладников и этнографы Б. О. Долгих и С. А. Токарев. Комплексное исследование изучаемой темы получило отражение в трудах И. В. Константинова и А. И. Гоголева с широким охватом всего комплекса археологических и этнографических данных по народу саха. Обширная историография проблемы, включающая в качестве этнических предков саха различные племенные группы Центральной Азии, позволяет оперировать сведениями из письменных источников. Эти данные предполагают миграции с территории Байкала и Южной Сибири различных этносов, носителей этнонимов саха, ураанхай, тумат, боотулу, байагантай, хоро и участие их в этногенезе народа саха на Средней Лене.
Происхождение якутов, этногенез, археология якутии, изучение якутского языка, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14737519
IDR: 14737519 | УДК: 930.1:
Текст научной статьи Историография этногенеза Саха: обзор научных гипотез и версий
По вопросу происхождения саха существует обширная литература. В ходе изучения этногенеза саха были высказаны самые различные версии, связывающие предков этноса с разными древними и средневековыми этносами. Советскими и российскими историками достигнуты определенные результаты в изучении этнической принадлежности древних и средневековых этносов Центральной Азии и Сибири. Поэтому у нас имеется отличная возможность сравнивать различные гипотезы о происхождении саха с современным состоянием изучения этнической истории тюрко-монгольских народов.
Целью статьи является анализ основных версий и гипотез по этногенезу саха, имеющему богатую историографию за 300 лет изучения вопроса. Актуальность исследования заключается в изучении правомерности сведений историографических версий по этногенезу саха. Практическая значимость работы состоит в том, что изложенные в ней версии по происхождению саха могут ини- циировать дальнейшие научные изыскания по поиску этнокультурных связей саха с народами Центральной Азии и Сибири. Итоги объективного изучения темы предполагают выход на изучение ранней этнической истории народа саха.
В 1692 г. в Амстердаме была издана работа, заложившая начало южной, миграционной теории происхождения саха – суть выдвинутой ее автором Н. Витзеном версии сводится к указанию на вытеснение бурятами предков саха с территории Байкала [Иванов, 1978]. В заслугу этому голландскому автору можно поставить введение в научный оборот сведений из фольклорных источников саха XVII в.
Пленный офицер шведской армии Ф. Стра-ленберг еще в XVIII в. указал на принадлежность языка саха к тюркским или, как тогда считалось, к татарским языкам [Strahlenber, 1730].
Участник Великой северной экспедиции 1733–1743 гг. Г. Ф. Миллер также занимался вопросами происхождения сибирских наро-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 5: Археология и этнография © В. В. Ушницкий, 2011
дов. По его утверждению, предки саха жили в соседстве с монголами и бурятами и вынуждены были уйти в результате неудачных войн. Как считал ученый, в Монголии до возвышения Чингиз-хана преобладали тюркоязычные племена [Миллер, 1937]. Таким образом, он впервые обратил внимание на сведения якутского фольклора, связывающие этот этнос с территорией Забайкалья и Монголии периода возвышения Чингиз-хана. В путевых записях Г. Ф. Миллера, в так называемых «Портфелях Миллера», сохранились сведения о тотемных верованиях и племенном самосознании представителей различных якутских родов [Элерт, 2001]. Согласно им, основная часть родов саха в XVIII в. входила в состав двух племенных образований: хоринцев и батулинцев, имевших тотем орла. Намцев с тотемом лебедя он отнес к отдельной группе; к тому же только у них имелись божества Татаар-Тайма и Могол-Тойон [Там же]. Таким образом, записи Г. Ф. Миллера свидетельствуют об изменении родоплеменного состава саха за прошедшие два века. Все они требуют научного анализа.
Другой участник Камчатской экспедиции – Я. И. Линденау, на основе сведений, полученных от информаторов из числа саха, пришел к мнению о формировании единого этноса саха на территории Байкальского региона. Переселение саха на среднюю Лену под предводительством Баджея – деда Ты-гына, к приходу русских властвовавшего над родами саха, происходило во второй половине XVI в. [Линденау, 1983. С. 176]. Исследователи следующих веков, искавшие следы пребывания предков саха на территории Байкала, ориентировались на сведения Я. И. Линденау как пересказ фольклорной версии XVIII в. о прародине саха.
Основоположником енисейско-минусинской гипотезы считается Н. Ф. Остолопов. Ему принадлежит высказывание о родственности саха с сагайцами Красноярского края. Этнический состав саха он разделил на три поколения, по именам легендарных прародителей – Омогоя (батулинское), Эллэя (кангаласское) и Хоро (бурятское) [Остолопов, 1806]. В XIX в. енисейская теория происхождения саха получила большое распространение. Этой точки зрения придерживались Н. С. Щукин [1844. С. 273–274], Н. А. Костров [1878. С. 130], П. Кларк [1864. С. 139–140], барон И. Майдель [Baron May- dell, 1896]. Из их трудов выходит, что саха XIX в. считали своей прародиной Енисей, а Байкал они рассматривали как промежуточный этап при переселении на среднюю Лену.
В материалах участников экcпедиции И. Биллингса, говорится о том, что «Омогой-бей, начальник батулинского поколения, пошел с народом своим и с табунами через землю бурятскую…к берегам р. Лены» [Этнографические…, 1978]. Н. А. Аристов также писал, что, по фольклорным данным саха, татарин из племени саха по имени Омогой или Эллэй мигрировал из Красноярска на Лену; этот автор связывал их с сагайцами. Он указывал на близость этого названия с именем саков, которых относил к древним тюркам [Аристов, 1896].
Д. А. Кочневу и В. Ф. Трощанскому принадлежит обоснование уранхайской гипотезы происхождения саха. В. Ф. Трощанский связывал саха с лесными уранхайцами Рашид-ад-дина, тем самым указывая на этническое родство саха c урянхайцами-туба [1902. С. 12–17]. Д. А. Кочнев указывал в качестве прародины саха Туркестан, связывая их с древними уйгурами, иным названием которых выступало слово уранхай [1896].
В надписи на памятнике в честь Кюль-Тегина было прочитано упоминание о делегации племени уч-курыкан, прибывшей на его похороны. Был сделан вывод, что куры-каны – это гулиганы китайских летописей; В. В. Радлов же пришел к мнению, что под гулиганями подразумеваются саха [Radloff, 1908].
По В. В. Радлову, самоназвание «саха-ураанхай» имело смысл как «пограничные уранхаи». Лесные уранхайцы, по его мнению, первоначально не принадлежали ни к туркам, ни к монголам [Ibid.]. Как считал исследователь, предки саха относились к «племенам неизвестного происхождения», подвергшегося монголизации, потом отуречиванию. В. В. Радлов – основатель версии, относящей саха к монголоязычным народам, подвергшимся тюркизации.
Лингвист О. Н. Бетлингк высказал мнение о большей древности образования якутского языка и народа. По его мнению, саха являются потомками крупного тюркского народа. Так, он считал, что единый «пра-тюркский» язык сначала разделился на две ветви – турецкую и якутскую [1990]. Заслу- гой О. Н. Бетлингка является тезис о глубокой древности или исконности тюркского ядра якутского языка.
В советское время к разработке проблем этногенеза народа саха стали активно привлекаться конкретные данные по этнографии, археологии, языку, фольклору и истории. Уже в 20-е г. XX в. началось научное изучение древней истории и этнографии коренных народов советских республик, в том числе и Якутии.
Н. Н. Козьмин не только отождествил гу-лиганей с курыканами, но и вероятным считал предположение, что они идентичны древним саха [1928]. Указывая путь переселения саха из долины Енисея на Ангару, он обьяснял данный момент экономическим и торговым кризисом в стране хакасов. По его мнению, сохалар-гулигане прожили около Байкала до начала XIV в., когда с востока из-за Байкала проникли буряты и вытеснили их на север, на Лену. Именно Н. Н. Козьмина можно считать основателем гипотезы о курыканском происхождении саха.
В 20-х гг. иркутский профессор Б. Э. Петри открыл археологическую культуру «курум-чинских кузнецов» раннего железного века в Прибайкалье. По его мнению, эти археологические памятники связаны с происхождением саха [1923]. Б. Э. Петри удалось надолго связать проблему изучения этногенеза саха с курумчинской культурой. Якутский краевед Е. Д. Стрелов, занимавшийся раскопками древних якутских могил, написал статью с контраргументами, где сделал вывод, что работа профессора Б. Э. Петри является ложной вехой в этнографической литературе, посвященной саха [Стрелов, 1926].
Первую монографию, посвященную происхождению народа саха, выпустил в 1937 г. Г. В. Ксенофонтов. При решении этой задачи он использовал в основном огромный фольклорный материал наряду с историческим (востоковедческим). Автор подверг подробному научному анализу историографию вопроса, выделил теоретические подходы к решению этногенетических процессов. По его сложной теории сначала происходило переселение на Вилюй уран-хайцев (оронкон-ураныкааны), представляющих собой потомков отуреченных тунгусских племен и гуннов с примесью монголов и тюрок. Вторыми на Вилюй переселились в VII–VIII вв. скотоводы «гули- гань» или «уч-курыкан». Народ «саха» уйгурского происхождения – предки саха Центральной Якутии, переселились на Лену из Прибайкалья в IX–XII вв. [Ксенофонтов, 1992]. Тем самым утверждалась версия о раннем проникновении предков саха в различные районы Якутии, хотя при этом ее автор вступил в противоречие с данными исторической науки. Так, обычно считается, что вилюйские и северные саха появились в результате слияния потомков переселенцев из центральных улусов Якутии и местных автохтонных племен тунгусов и юкагиров. Г. В. Ксенофонтов отделяет вилюйских саха от центральных, приходя к выводу о преобладании в составе первых впоследствии объякученных эвенков. Таким образом, он как бы связывает ранний этап этногенеза саха с проблемой проникновения и распространения эвенков по Якутии как пришельцев из более южных районов. Его выводы и гипотезы свидетельствуют о том, что автор был прекрасно знаком с трудами востоковедов своего времени. Например, он у них мог принять гипотезу, связывавшую хуннов с эвенками, или известие о бегстве последнего уйгурского кагана к племенам да-шивей, по мнению историков населявших территорию Южной Якутии [Кюнер, 1961].
Г. В. Ксенофонтов сделал чрезвычайно много для изучения историографии происхождения саха, сбора фольклорных источников и высказал ряд смелых гипотез, не потерявших свою актуальность до наших дней. Например, автор уделял особое внимание племенам хори-тумат, ойрат, баргут [1992].
Известный якутский поэт и партийный деятель П. А. Ойунский, на основе интерпретации некоторых топонимов и антропонимов эпоса олонхо выдвинул гипотезу об исходе предков саха из степей вокруг Аральского моря [1928]. Так, Араат Бай-гал – обозначение южного моря богатырей «ураанхай-саха», в олонхо отождествляется им с Аральским морем, предки Эллэя Аргын и Айаал – с казахским этнонимом аргын и аялы среди сибирских татар и т. д. В заслугу П. А. Ойунскому можно поставить обращение к материалам эпоса олонхо как важного источника.
П. А. Ойунский попытался дальше развить гипотезу, выдвинутую известным казахским историком М. Тынышпаевым, о связи саха с кереитским племенем – саха- эт. В подтверждение своей версии он приводил параллели с монголами в мифологии, в эпосе, в языке, в материальной культуре саха [Ойунский, 1962]. Следует указать, что кереитская версия происхождения саха опирается лишь на сходство этнонимов и не имеет опоры в археологическом и этнографическом материале.
Автором автохтонной теории, связывающей формирование саха с процессом медленного просачивания с юга (с территории Прибайкалья, а также верховья Амура) скотоводческих элементов и постепенной тюркизации местного населения, считается С. А. Токарев [1941; 1945]. Ему принадлежит заслуга переориентации направления поисков прародины саха на современную территорию обитания, где происходил процесс его этногенеза в результате слияния пришлых и местных элементов.
А. Н. Бернштам в «гу-ши» Танских источников, идентичных с «да-мо» (дахань), видел китайское обозначение предков саха и тунгусов. Отсюда вытекало, что предки саха и тунгусов уже в VI–VII вв. занимали те же земли, которую занимают сейчас [Бернш-там, 1947. С. 63–65]. Данное мнение, считающее саха жителями территории Якутии еще с древнетюркской эпохи, согласуется с архаичностью культуры и языка саха, в котором сохранилось очень мало материалов, показывающих знакомство их с эпохой Монгольской империи.
Первый комплексный подход к решению проблем происхождения саха применил академик А. П. Окладников. В работе, посвященной древнему этапу истории Якутии, он использовал данные фольклора, языка, этнографии, археологии и иные. Ему удалось связать археологические памятники курумчинской культуры с предками саха, которых в средневековых письменных источниках называли курыканами или гулига-нями. А. П. Окладников практически во всех областях якутской этнографии и археологии был первооткрывателем – так, он является автором научной гипотезы о южном происхождении якутского эпоса олонхо, преобладании монгольских слов в якутских терминах оседлого скотоводства и тюркского происхождения – в социальной и общественно-политической сферах жизни саха. Им были открыты скотоводческие поселения на средней Лене, названные культурой «малых домов» и «кыргыс-этехов». По мнению это- го автора, последняя волна предков саха, считавшая себя потомками Эллэя (кангалас-цы), только в конце XV или в первой половине XVI в. с верхней Лены вышла в район средней Лены. В дальнейших трудах по изучению этногенеза, особенно в научнопопулярных книгах в постсоветский период, можно встретить интерпретации основных положений его многочисленных статей и монографий по данному вопросу [Окладников, 1955].
Германская исследовательница У. Йохансен на основе анализа орнаментов в древнеалтайских археологических находках и их сопоставления с современным якутским орнаментальным искусством связала этно- и культурогенез саха с пазырыкской культурой Горного Алтая V–III вв. до н. э. [Johansen, 1954]. Ее наблюдения в области якутского орнаментального искусства можно дополнить сравнением пазырыкского костюма и якутской женской одежды, где также имеются параллели [Полосьмак, 2001].
Оригинальный взгляд на проблему имел сибиревед Б. О. Долгих. Предками саха он считал бурятское племя эхиритов на верхней Лене – по его мнению, они ушли вниз по Лене. Этническим ядром саха он считал кангаласцев, связывая их с эхиритским родом хэнгелдур. Им был сделан вывод, что имя «тумат» в архивных документах XVII в. употреблялось в качестве обозначения якутского населения, платившего ясак в Средне-вилюйском зимовье [1960. С. 44]. Б. О. Долгих подробно исследовал родовой состав якутского народа, важное значение для изучения этногенеза этого этноса имеют его данные по численности и расселению коренных народов Якутии в XVII в.
После А. П. Окладникова в 60–70-х гг. проблемой происхождения саха занимался сотрудник ИЯЛИ, археолог И. В. Константинов. Его исследование представляется комплексным, поскольку предпринята попытка обобщить данные наук, имеющих отношение к изучению этногенеза саха. По его мнению, переселение саха на среднюю Лену происходило примерно в XV в. как переселение довольно компактной этнической группы, представлявшей вполне сложившуюся этническую общность. Им был сделан вывод о том, что саха и булагаты некогда составляли единое племя, разделившееся на две половины. Археолог приводит антропологические, лингвистические мате- риалы, согласно которым предки саха в Прибайкалье, проживая вместе с бурятами, испытывали взаимное влияние. Об этом свидетельствуют также фольклорные данные и параллели в материальной и духовной культуре [Константинов, 1975; 2003].
И. В. Константинову принадлежит заслуга изучения «погребений с конем» на территории средней Лены, которые он связал с Усть-Талькинским и Сэгенутским могильниками Прибайкалья, также изученными им в ходе экспедиционной поездки. По его утверждению, в Прибайкалье в эпоху монголов появились новые тюркоязычные племена, занесшие в бассейн верхней Лены обычай закапывать умерших вместе с конем [1970; 1971. С. 182–184]. Таким образом, И. В. Константинов – первый советский ученый, предполагавший возможность связи этногенеза саха с племенами раннемонгольской эпохи.
А. И. Гоголев пазырыкскую культуру считает стартовой площадкой для этногенеза и формирования якутской этнокультуры. В имеющихся параллелях материальной и духовной культуры саха с материалами скифо-сибирской эпохи в Южной Сибири он усматривает наличие индоиранского субстрата в этногенезе саха. По мнению А. И. Гоголева, в древнетюркскую эпоху предки саха были представлены курыкана-ми. В этногенезе саха прослеживается участие второй тюркоязычной группы с кыпчакским наследием. Считается, что эти племена, придерживавшиеся обряда погребений с конем, окончательно определили культуру и язык саха. Таким образом, А. И. Гоголев является автором гипотезы об участии кыпчаков в этногенезе саха [1993]. Однако с исторической точки зрения до сих пор неясным представляются пути и время проникновения носителей кыпчакских элементов на среднюю Лену. Кыпчакский компонент А. И. Гоголев связывает с канга-ласцами, отождествляя их с канглы, имеющимися в составе казахов и других народов кыпчакской принадлежности.
Выделение А. И. Гоголевым скотоводческой кулун-атахской культуры XIII–XV вв. на средней Лене является переломным этапом в научном изучении времени и места формирования народа саха. В кулун-атах-ской культуре появляются плоскодонные керамические сосуды, размер строений увеличивается, и они приобретают форму бала- ганов с пристроенными к ним хлевами-хотонами. Обильный остеологический материал свидетельствует о разведении кулун-атахцами лошадей и коров [Гоголев, 1990; 1993].
В монографиях А. И. Гоголева комплексный подход к изучаемой проблеме является преобладающим, им собраны практически все сведения, имеющие отношение к данному вопросу, будь то вопрос происхождения якутской лошади или жилища-балагана. Превосходное знание материальной культуры саха позволило ему провести сопоставительный анализ элементов якутской этнокультуры с бурятами и тюркоязычными народами Южной Сибири. Этот исследователь является ярко выраженным сторонником южной теории происхождения саха [Гоголев, 1993. С. 111]. Безусловно, фундаментальные труды А. И. Гоголева, выполненные на стыке археологии и этнографии, будут служить базовым ориентиром для последующих исследований не только вопросов этногенеза и формирования якутской этнокультуры на средней Лене, но и тюркских народов Южной Сибири.
Отдельные вопросы интересующей нас проблемы затрагивали в своих исследованиях филологи, фольклористы, антропологи, работы которых имеют определенное историографическое значение. Некоторые из них выдвинули собственные оригинальные гипотезы. Так, Е. С. Сидоров – филолог и ориенталист, связывает самоназвание «саха» с племенами сахарча или сахалянь, упоминаемыми в связи с маньчжурскими походами в Приамурье в начале XVII в. Он указывает, что в средние века в маньчжурском языке термин саха означал понятия «охота», «травля зверей», «облава», а термин саха-лянь - «черный», «север», «весьма темный» [1984. С. 41–42]. Заслугой Е. С. Сидорова являются обращение к китайским источникам и попытка их интерпретации, а также поиск родственных слов из словарного запаса саха в словарях разных народов мира – старомонгольском, санскрите, маньчжурском, корейском и японском. Безусловно, такие поиски объективно интересны для изучения истории якутского языка и позволяют говорить о его корнях.
Е. И. Убрятова выдвинула тезис о том, что якутский язык сложился в процессе распространения в иноязычной среде какого-то древнего тюркского языка, близкого языку орхонских тюрок. Среди предков саха, эвенков (тунгусов) и какого-то монголоязычного племени, проживавших в непосредственном общении на территории Центральной Якутии, существовало фактическое многоязычие [1985. С. 47–48]. Труды Е. И. Убрятовой имеют весьма важное значение для изучения происхождения якутского языка, следовательно, и этноса.
Археолог А. Н. Алексеев попытался усилить аргументы в пользу преимущественно местного происхождения саха. Он придерживается мнения о том, что отуреченные в результате миграции небольших групп пришельцев из южных районов палеоазиаты, проживавшие на территории средней Лены с незапамятных времен, являются основными предками саха [1996]. По его мнению, открытые А. П. Окладниковым «малые дома», датируемые XIII в., являются самостоятельной культурой, переходной от раннего железного века к кулун-атахской культуре. Люди, оставившие памятники культуры «малых домов», считаются охотниками и рыболовами, постепенно переходившими на занятия скотоводством [Алексеев, 1994. С. 67]. Тем самым А. Н. Алексеев доказывал возможность участия автохтонного населения Якутии в этногенезе якутского народа.
Ф. Ф. Васильев впервые попытался научно обозначить присутствие уральского и амурского компонентов в процессах этногенеза саха. Раннеякутский этап этногенеза, датируемый второй половиной XIII – XIV в., связан с племенами кыргыс, хоро, тумат и выделяется им как ранний, кыргыс-ский пласт. С кангаласцами – носителями культуры погребений с конем, связан финальный этап этногенеза саха, для него характерна консервация кимако-кыпчакских элементов [1995]. Таким образом, концепция этого исследователя предполагает формирование на средней Лене сложносоставного этноса, имеющего различные истоки, в том числе происходящие с Амура и Западной Сибири.
Заслуга монографического исследования погребальных обрядов саха принадлежит Р. И. Бравиной. Ею был сделан вывод, что по своим конструктивным особенностям и строительным приемам погребальные сооружения саха близки пазырыкским погребениям. Обряд трупосожжения она связывает с племенем кыргыс (кыргыз), а также с курумчинцами-курыканами [1996. С. 165–167]. Таким образом, Р. И. Бравина и Ф. Ф. Васильев развивают выводы А. И. Гоголева об участии пазырыкцев и кыпчаков в этно- и культурогенезе саха.
А. М. Малолетко на основе сведений якутского фольклора о ранних насельниках края – хара-саhыл, туматах и кыргысах, позволяющих связывать их с этнонимами саяно-енисейских тюрок, выдвигает гипотезу о ранней тюркизации Якутии. По его мнению, этногенез саха связан с проникновением с Амура представителей гуннского племени тоба [2004. С. 148].
Вопросами этнического происхождения племенных групп, имеющих отношение к происхождению саха, активно занимаются бурятские ученые. Так, Ц. Б. Цыдендамбае-вым установлено, что в архивных документах XVII в. хоринские буряты подразделялись на «батулинцев и коринцев». При этом он приходит к выводу, что батулинцы могли быть тюркоязычными и этнически связанными с предками саха, а хоринцы – монголоязычными, имевшими культ собаки [1972]. По мнению Г. Н. Румянцева, эти фратрии хори восходят к двухплеменному объединению хори-туматов XIII в. [1962].
Принадлежность курумчинской культуры к курыканам, в процессе дальнейшего изучения курумчинской культуры бурятскими и иркутскими археологами была подвергнута сомнению с их стороны. Во-первых, дискутируется этническая принадлежность курумчинской культуры и в последнее время поставлена под сомнение сама возможность объединения археологических культур на территории Прибайкалья и, отчасти, Западного Забайкалья второй половины I тыс. н. э. в рамках единой ку-румчинской культуры [Харинский, 2001]. Во-вторых, отрицается связь курыкан с ку-румчинской культурой. По утверждению А. В. Харинского, географически эти термины не совпадают [Там же. С. 14]. По результатам археологических исследований Б. Б. Дашибалова курумчинская культура связывается с Дальним Востоком, с Маньчжурией и Кореей и, по его предположению, принадлежит хори-шивэям [2003]. В-третьих, можно поставить под сомнение проблему этногенетической связи курыкан с саха. Например, Б. Д. Нанзатов этноним ку-рыкан воспроизводит от слова qorïγan ~ qurïqan со значением «стан, военный ла- герь» в древнетюркском словаре. Следовательно, термин курыкан связывается с понятием «гарнизон, городище». В таком ключе представление о них, как о предках саха, является довольно спорным.
По мнению иркутского археолога В. С. Николаева, усть-талькинская археологическая культура XII–XIV вв. Южного Приангарья принадлежит тюркоязычным туматам, мигрировавшим в конце XI в. в Предбайкалье с предгорий Саяно-Алтая. Выводы автора об этнокультурной связи туматов с кимако-кыпчакским союзом племен и мнение о ключевой роли туматов в этногенезе саха представляют значительный интерес для исследователей [2004]. Точка зрения В. С. Николаева, отождествляющего этнических предков саха с туматами, является довольно нестандартным подходом, если обратиться к историографии вопроса. Так, туматы считаются средневековыми обитателями территории Тувы (отождествляются с дубо) и предками тувинцев. В исследованиях бурятских ученых хори-туматы предстают как этнические буряты, вокруг которых образовался бурятский этнос [Нимаев, 2007].
В последние годы к исследованиям по данной проблеме присоединились специалисты-генетики. Так, сходство структуры генофонда саха и эвенков объясняется общностью их происхождения из единой предковой популяции. При этом предполагается, что на территории Якутии – с включением территории Забайкалья (выборка эвенков сформирована из тех мест), существовала популяция, генофонд которой характеризовался очень высокой частотой гаплогрупп N3a c весьма своеобразным спектром галло-типов. Следовательно, эти популяции подверглись ассимиляции со стороны тунгусов, а потом более поздних тюркоязычных мигрантов [Харьков и др., 2008. C. 234–235]. С. А. Федорова утверждает, что по составу линий мтДНК и Y-хромосомы установлены тесное генетическое родство между центральными и вилюйскими саха, большая генетическая близость популяций саха к эвенкам, отдаленность саха от юкагиров [2008а]. Пул линий Y-хромосомы характе-ризируется крайне низким уровнем разнообразия, при этом популяция саха с ярко выраженным эффектом родоначальника составляет подавляющую часть коренного населения Якутии. Имеются также гаплогруп- пы Q и C3*, характерные для аборигенных популяций Америки [2008б. С. 189]. Таким образом, С. А. Федоровой удалось представить наиболее полный на сегодняшний день генетический материал для изучения этногенеза саха и сделать важные выводы исторического характера на основе этих данных.
Подводя итоги нашего рассмотрения, выделим несколько основных моментов в историографии вопроса. Ранние исследователи (периода Российской империи), пересказывая сведения из фольклорных источников, связывали прародину саха с СаяноЕнисейским краем и территорией Прибайкалья. Язык и фольклор изучаемого этноса являлись основными источниками для исследователей данного периода. С современной научной позиции следует критически относиться к их концепциям, поскольку над ними довлело полное доверие к фольклорным сведениям и сообщениям информаторов – казакам и «промышленным» людям, побывавшим в Якутии, и грамотным представителям народа саха.
Начиная с трудов С. А. Токарева, где он предлагал искать местные корни этноса, не увлекаясь теорией образовавшегося на юге этноса, принято разделять якутских исследователей на сторонников местного и пришлого происхождения саха [1941; 1945]. Более фундаментально автохтонную теорию этногенеза саха разработал А. Н. Алексеев [1994; 1996].
В китайских летописях и орхонских рунических надписях сохранились сведения о гулиганях-курыканах, обитавших на территории Прибайкалья с V–VII вв. Курыкан стали преподносить в качестве носителей курумчинской культуры Прибайкалья. В результате в советской науке утвердилась ку-рыканская теория происхождения саха. Вместе с более подробным изучением археологии Прибайкалья на передний план выдвинулась связь якутской этнокультуры с усть-талькинской культурой XII–XIV вв., генетически связанной с кимако-кыпчак-ским этническим кругом. На территории Якутии также обнаруживаются погребения с конем, связываемые с проникновением групп кимако-кыпчакского происхождения. Генетические исследования в сочетании с новыми лингвистическими материалами также вносят новые аспекты в изучение старой проблемы.
По нашему же мнению, результаты анализа историографического аспекта изучаемой проблемы предполагают синтезированное происхождение якутского этноса – от слияния южных пришельцев с местными, автохтонными группами на территории средней Лены в XV–XVI вв. При этом южные мигранты могли прибывать отдельными группами в разное время. Выделяются носители этнонимов ураанхай, саха, боотулу, хоро, байагантай и тумат как имеющие этнических предков в южных регионах.
HISTORIOGRAPHY OF SAKHA ETHNO-GENESIS:
REVIEWING THE SCIENTIFIC HYPOTHESES AND VERSIONS