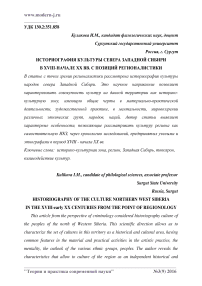Историография культуры севера Западной Сибири в XVIII-начале XХ вв. с позиций регионалистики
Автор: Куликова И.М.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (9), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье с точки зрения регионалистики рассмотрена историография культуры народов севера Западной Сибири. Это научное направление позволяет характеризовать совокупность культур на данной территории как историко-культурную зону, имеющую общие черты в материально-практической деятельности, художественной практике, в ментальности, мировоззрении различных этнических групп, народов, наций. Автор статьи выявляет характерные особенности, позволяющие рассматривать культуру региона как самостоятельную ИКЗ, через хронологию исследований, предпринятых учеными и этнографами в период XVIII - начала ХХ вв.
Историко-культурная зона, регион, западная сибирь, топохрон, взаимодействие культур
Короткий адрес: https://sciup.org/140268313
IDR: 140268313
Текст научной статьи Историография культуры севера Западной Сибири в XVIII-начале XХ вв. с позиций регионалистики
Регионалистика (или регионология) - относительно новое направление в современной науке, которое обобщило эмпирические наблюдения большого числа краеведов и результаты специализированных исследований различных отраслевых наук (археологии, антропологии, этнографии, фольклористики, лингвистики, искусствоведения и др.). Л.М. Мосолова, выявляя теоретические основания этого направления, в первую очередь выделяет историческую географию, которая традиционно занималась проблемами изучения регионов как объекта и основной единицы исследования современной регионалистики, а также историческую культурологию [3, с.10]. Методологические основания для изучения регионов предложили А.С. Герд и Г.С. Лебедев [4]. В качестве специализированного эквивалента понятия «регион» исследователи вводят понятие историко-культурной зоны (ИКЗ) как основного термина теоретико-методологического аппарата регионалистики. Они рассматривают ИКЗ как многофакторные величины, постепенно складывающиеся на определенной территории, в условиях определенного климата и ландшафта, как результат смешения и синтеза физикогеографических, климатических, демографических, производственных, хозяйственных, языковых, расовых, этнографических и других компонентов [4, с.89]. К числу таких специфических историко-культурных зон, где в качестве субъектов культурной деятельности взаимодействуют на протяжении длительного исторического времени различные социальные общности (этнические группы, народы, нации), имеющие общие черты в материально-практической и художественной деятельности, в ментальности, обладающие самоидентификацией, можно отнести, с нашей точки зрения, Тюменский Север.
Изучение культуры народов, населяющих северные территории Западной Сибири, и в первую очередь - наследия угров (ханты и манси), началось еще в XVII веке с исследований Н.Г. Спафария, который совершил поездку по Сибири. В начале XVIII века у остяков побывал ученый монах Г. Новицкий, оставивший много интереснейших наблюдений о культуре некоторых этнических групп хантов. С XVIII-XIX веков начинается целенаправленное изучение народов Сибири. Работа Академических экспедиций, возглавляемых Г.Ф. Миллером, И.Э. Фишером. П.С. Палласом и др., проводилась по специально подготовленным программам, ориентированным на изучение истории, различных сторон жизни и быта коренного населения Сибири. Итогом такой работы стала «История Сибири» Г.Ф. Миллера, отличавшаяся привлечением обширного исторического материала: архивных документов, летописей, легенд. Материалы, провезенные Г. Миллером из сибирских путешествий, были обработаны И.Э. Фишером. В XIX в. появились работы обзорно-географического, официально-статистического, описательного характера, сделанные этнографами-любителями. Большое значение до сегодняшнего дня имеют энциклопедические по объему привлеченного материала и содержательности работы авторов XIX и начала XX вв. Среди них выделяются исследования М.А. Кастрена, А.А. Дунина-Горкавича, С.К. Патканова . В изучение культуры региона свой вклад внесли венгерские (М. Регули, Б. Мункачи, Й. Папай) и финские (К.Ф. Карьялайнен, А. Каннисто, К. Доннер, Т. Лехтисало) исследователи, уделявшие основное внимание фольклору, мифологии и языку автохтонов; У.Т. Сирелиус оставил описание хозяйственной культуры угров. В этот период был открыт уникальный мировой археологический памятник - урочище Барсова гора, на территории которого ученые обнаружили большое скопление древних артефактов. Подчеркнутой описательностью отличались работы краеведов рубежа XIX-XX вв., посвященные конкретным вопросам изучения жизни коренного населения. Эти работы, с нашей точки зрения, завершают первый период исследований, после которого начнется системное и планомерное профессиональное научное изучение всех сфер культуры региона.
С позиций регионалистики абсолютно верным представляется то, что делали первые исследователи: они определяли ареал местности, которую мы предлагаем обозначать как историко-культурную зону. Среди методологических понятий в изучении ИКЗ исследователи выделяют понятие «топохрон», то есть тип культуры в координатах места и времени [4, с.8, с.42]. При этом первичным является понятие «топоса» - места в географическом пространстве в условиях конкретного климата и ландшафта, которое сохраняет черты устойчивости (размеры, границы, имена, топонимические обозначения и пр.) на протяжении длительного времени. Это не исключает возможности смены на данной территории этносов, языков, общественных отношений, способов хозяйственной деятельности, форм художественного творчества и пр. Возвращаясь к вопросу об историографии, отметим, что, например, Н.Г. Спафарий даже определял широты ряда пунктов, через которые шло его путешествие, предоставлял достоверные свидетельства о расселении остяков («Путешествие через Сибирь...», «Путевые заметки»). Г. Новицкий («Краткое описание о народе остяцком») исследовал районы Конды, Иртыша, Оби. Заметки В. Зуева («Народы Западной Сибири») посвящены описанию березовских остяков и самоедов Нижней Оби. Жизнь населения Березова описывали краеведы Н. Абрамов, В. Шавров, Л. Бекетов, изучал К. Карьялайнен. Подробное описание остяков на Нижней Оби сделано Ф. Белявским («Поездка к Ледовитому морю», 1833). Г.Ф. Миллер оставил наблюдения о территории Прииртышья и Приобья. М. Кастрен и К. Карьялайнен обследовали низовья Иртыша с притоками Конда и Демьянка, низовья Казыма, Салым, Вах, Васюган. М. Кастрен посетил Тобольск, Березов, Обдорск; считается, что именно им впервые было посещено урочище Барсова гора («Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири») [1]. В литературе Барсова гора (поселение около г. Сургута) впервые упоминается в 1890 г. в списке археологических памятников, который был составлен известным археологом-любителем И.Я. Словцовым. Позже здесь будут обнаружены древние постройки от каменного века до Нового времени . А. Дунин-Горкавич обследовал бассейны обских и иртышских притоков («Тобольский
Север»), где жили ханты и манси. И. Шухов изучал жизнь обитателей Казыма и низовьев Оби («Река Казым и ее обитатели», «Поездка в низовья реки Оби и Обскую губу» и др.), Л. Шульц – салымских остяков и жителей Конды («Салымские остяки» и др.), Г. Дмитриев-Садовников – населения Ваха и Полуя недалеко от Салехарда. А. Каннисто изучал манси на реке Сосьве. Т. Лехтисало внимание уделял преимущественно поселениям ненцев. Й. Папаи исследовал устье реки Сосьвы. У. Сирелиус объездил Среднюю и Нижнюю Обь с притоками Б. Юган, Аган, Тромъеган, Сев. Сосьва, Ляпин, Салым, Конда, Иртыш, А. Алквист – Пелым, Тавду, Сев. Сосьву, Лозьву, Нижнюю Обь, Конду. Другими словами, эти исследователи определяли границы территории, имевшей некие сходные черты. Соответственно описывались особенности природы и ландшафта, которые всегда определяют специфику культуры в ее материальном выражении, а также многие элементы духовной деятельности (верования, праздники, традиции). Так, Л.Р. Шульц в «Очерке Кондинского района» дал подробное описание реки Конды с ее притоками, озерами, долинами, туманами. Много внимания он уделил описанию лесов и почвы (пески, болота, увалы), сообщил об особенностях фауны.
Исследования XIХ–начала XХ вв. изобилуют богатейшим этнографическим материалом. Уже путевые заметки Н. Спафария содержали любопытные сведения об отдельных сторонах быта хантов. Записи В. Ф. Зуева отличались богатым конкретным материалом о быте и традиционной этнической культуре остяков и самоедов. «Региональный» подход характерен для очерков краеведов, основанных на богатом полевом материале. Так, Ф. Белявским были выделены некоторые локальные особенности в быте и культуре туземцев. Этнографическими наблюдениями о народах Севера и Сибири изобилуют работы М. Кастрена и А. Каннисто. У. Сирелиуса интересовала культура жизнеобеспечения угров – лесопромысловая проблематика, охота, рыболовство. В изучении Обского Севера заметно выделяется трехтомное исследование А.А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север» (1904, 1910, 1911), в котором дана общая этнографическая характеристика остяков и вогулов. Не претендуя на подробное исследование всего комплекса хозяйства и культуры коренных этносов, он уделил основное внимание выявлению региональных хозяйственно-бытовых особенностей населения, живущего в бассейнах Оби и Иртыша. Интереснейшие наблюдения о хозяйственных занятиях аборигенов оставил Г. Новицкий. Уделяя много внимания описанию народнохозяйственных промыслов, исследователи отмечали доминирование присваивающего типа хозяйства (охота, рыболовство, собирательство) на всех обследованных территориях. Вместе с тем отмечались и занятия земледелием и скотоводством – преимущественно как результат влияния других народов (коми, русских, тюрков). Так, Л. Шульц указывал на овцеводство и разведение крупного рогатого скота в верховьях Конды. В этот период были собраны первые сведения об общественных отношениях, социальном устройстве, господствовавших формах социальной организации обско-угорских и самодийских обществ. Об этой стороне жизни аборигенов есть сведения у Г. Новицкого. В работе Ф. Белявского много сведений о сборе ясака, управлении на местах, остяцких князьях. О так называемых княжествах много интересных и важных наблюдений оставил Г.Ф. Миллер. Собраны были сведения о древних городищах, городках, могильниках. М. Кастрен привел сведения о родовом делении инородцев Нижней Оби, дал характеристику рода у обдорских хантов. М. Шатилов изучал племенные, родовые, семейные отношения остяков. С.К. Патканов на основе фольклора выявил многие черты общественного строя угров XIII-XV вв., привел статистические данные по демографической и этнической ситуации в Сибири в конце XIX века («Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев»; 1911, 1912). Несмотря на описательный характер большинства работ, они выявляли общие природные, географические условия формирования и существования культур, общие элементы материальной и духовной культуры разных народов (форма одежды, типы жилищ; пища, сосуды, оружие, обычаи), особенности социума. Археологические памятники также подтверждают единство культуры древних народов на этой территории.
Современная регионалистика в первую очередь занимается выявлением и объяснением естественно исторических причин и предпосылок становления и развития региональной культуры. В связи с этим она активно опирается на исследования по проблемам этногенеза и культурогенеза. Историей заселения севера Западной Сибири различными этническими группами, выявлением характера их взаимодействия в огромном угро-самодийском ареале, процессом смешивания народов при подчёркивании этнокультурной непрерывности процесса занимались такие исследователи, как М.А. Кастрен, И.Ф. Фишер. Это вопрос затрагивался в работах Г.Ф. Миллера, Н. Абрамова, С. Патканова, публициста и путешественника К.Д. Носилова («Остяки», «Вогулы»). Выявление этнического состава исследуемых территорий привело к выделению племенных групп и диалектов. В обзоре П.С. Палласа по Западной Сибири отсутствовали какие-либо определенные сведения по локальным группам обских угров. С.К. Патканов впервые поставил вопрос о необходимости описания и изучения отдельных племен, то есть локальных общностей среди коренного населения Сибири. А. Дунин-Горкавич выделил группу южных хантов. М. Кастреном особо выделена была северная, обдорская, группа остяков, находящаяся в постоянном взаимодействии с самоедами. Заметки В. Ф. Зуева предоставляют сравнительный материал о традиционной культуре остяков и самоедов. О «переплетении» культур остяков и вогулов в сфере хозяйственной деятельности писал Л. Шульц. Одновременно в научных разработках отмечались различные инокультурные влияния в среде автохтонных этносов: значительное – иранское, тюркское и русское, менее значимое – коми, кетов, гуннов, эвенков. Изучение угро-иранских связей проводилось уже первыми исследователями (Н.Г. Спафарий, Г.Ф. Миллер, И.Э. Фишер). Число работ на эту тему возросло во второй половине Х1Х – ХХ вв. (И. Иванов, Д. Анучин, А. Спицын, К. Носилов). Этнографический аспект иранского пласта у обских угров выделен в работах Б. Мункачи. В его работах изучение угро-(индо)иранских связей впервые вышло на уровень научной гипотезы. О взаимоотношениях между остяками и татарами и тюркизации аборигенов сообщал
Г.Ф. Миллер. Влияние татар в языке и объектах материальной культуры вогулов и остяков отмечали Л. Шульц и С. Патканов. Существенную роль в развитии культур угро-самодийского мира сыграли две волны переселения коми в Зауралье: в XIXIII (зыряне, коми-пермяки) и XIX вв. (ижемские оленеводы). Об участии коми, особенно зырян, и их вкладе в освоение Сибири писал еще Г.Ф. Миллер. А.А. Дунин-Горкавич отмечал влияние коми языка на угорские диалекты и материальной культуры коми - на хозяйственную сферу вогулов и остяков. Он же указывал на связь угро-самодийцев с эвенками [2, с.119]. Много внимания уделялось влиянию русской культуры и процессу обрусения местного населения. Этот аспект был затронут уже у Н.Г. Спафария. О быстром и интенсивном обрусении автохтонов (особенно южных хантов и манси) писали М. Кастрен, А. Каннисто, А. Дунин-Горкавич, Ф. Белявский, К. Носилов, С. Патканов, Л. Шульц и другие. По мнению А. Дунина-Горкавича, более сильное влияние русской культуры было там, где находились «передовые пункты русской оседлости». Отмечая социально-экономические, бытовые связи хантов с русскими, он писал: «Указанное влияние замечается,... когда инородцы соприкасаются с русскими... Там, где среди остяков разбросаны оазисами русские селения, или сами остяки проживают близ границ сплошных русских поселений, весьма заметно влияние на остяцкую жизнь русской культуры. На других инородцев, как очень редко соприкасающихся с русскими, влияние это почти не сказывается» [2, с.128]. Исследуя процессы этногенеза и складывания локальных культур, взаимодействия коренных этносов между собой, обнаружение антропологического единства древнего населения, выявление влияния гуннов, иранцев, татар и других народов, проникновение русского населения на территорию и характер влияния русской культуры, исследователи приближались к пониманию существования на обследуемой территории некоего культурного единства.
К сходным выводам приводили исследования лингвистов и фольклористов. Большой знаток в области финно-угорского и самодийского языкознания, М.А. Кастрен, собрал обширные лингвистические и этнографические материалы, позволившие ему уверенно присоединиться к точке зрения И.Э. Фишера о южном происхождении северных самодийцев и их контактах с уграми. М. Кастрен готовил монографию о хантыйском языке, работал над словарем самодийских языков. А. Регули впервые доказал родство венгерского, хантыйского и мансийского языков. Б. Мункачи изучал финно-угорские и тюркские народы Поволжья и Западной Сибири и их языковые и культурные связи с венграми. А. Карьялайнен занимался сбором хантыйской лексики в Сибири. Лингвисты стали говорить об отнесении языков коренных этносов к самодийско-угорской группе. Выявление идеологических и ментальных параметров, характера самоидентификации народов осуществляется посредством изучения религиозно-мифологических систем и фольклора, отражающие этнические архетипы. В исследованиях этой стороны культуры региона большую роль сыграли финские и венгерские лингвисты и этнографы. Изучение религиозных представлений и мифологии коренных народов, их сопоставительный анализ осуществлялся учеными преимущественно на примере хантов и манси (за исключением работ Т. Лехтисало), чье мировоззрение ярче отражало представления о человеке и окружающем его мире, включая Космос. В них переплелись язычество, фетишизм, тотемизм, анимистические представления, поклонение природе, и христианские воззрения. Об этом писали Г. Новицкий, У. Сирелиус, В. Шавров, Й. Папай, М. Кастрен; христианизация остяков и вогулов стала темой очерков Н. Абрамова, С. Патканова и других. К. Карьялайнен посвятил религии автохтонов отдельную работу («Религия югорских народов»). А. Каннисто описал Медвежий праздник и обряды вогулов. Это были чрезвычайно ценные сведения, так как Медвежий праздник, отражающий мифологическое мышление и религиозные взгляды хантов и манси, почти не сохранился у других этносов. Об этом празднике писали также Й. Папай, Н. Ядринцев («О культе медведя у сибирских инородцев», 1891). Проблему шаманизма сибирских народов и личности шамана затрагивали Т. Лехтисало, В. Шавров; погребальные обычаи и обряды, праздники описывали В. Бартенев, Д. Анучин и другие. В этот период начался сбор и первичная классификация жанров угорского и самодийского фольклора. Й.
Папай, повторив маршрут экспедиции А. Регули, записал на Сосьве одно из сказаний («Песнь старца из Тэги»). Сказания о богатыре записал Г. Дмитриев-Садовников. Из наследия этого периода особо следует отметить собрание С.К. Патканова по фольклору иртышских хантов. Он не только записал, но и проанализировал множество остяцких легенд, героических сказаний. Активный интерес вызвали параллели между угорской мифологией и религиями древнего Ирана. Эти наблюдения первым сделал Б. Мункачи (позже его идея была развита В. Чернецовым). Наиболее полно изучен лингвистический аспект взаимодействия финно-угров с индоевропейцами и индоиранцами (И. Фишер, В. Томсен). Много общего было обнаружено исследователи в мифологических представлениях угров и самодойцев.
Проведенный анализ историографической литературы подтверждает возможность выделения северных территорий Западной Сибири в качестве единой историко-культурной зоны на основании данных археологии, этнографии, истории, географии, фольклористики, языкознания, мифологии и других наук. Здесь в едином природно-географическом ареале возникали, сосуществовали, взаимодействовали или же последовательно в разное время сменяли друг друга антропосоциокультурные процессы и традиции.
Список литературы Историография культуры севера Западной Сибири в XVIII-начале XХ вв. с позиций регионалистики
- Барсова гора. [Электронный ресурс].URL: http://barsovagora.ru.
- Дунин - Горкавич А.А. Тобольский Север. - Т. 1. - Тобольск, 1904. - 281 с.
- Мосолова Л.М. Теоретические основания исследования по истории культуры регионов России /Истоки региональных культур России: сб.н.ст.- СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. - 173 с. - С.4-15.
- Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон /ред. А.Г. Герд, Г.С. Лебедев. - СПб: Изд-во СПбГУ, 1999. - 392 с.