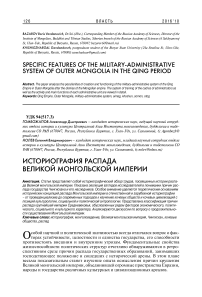Историография распада Великой Монгольской империи
Автор: Гомбожапов Александр Дмитриевич, Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой историографический обзор трудов, посвященных истории распада Великой Монгольской империи. Показана эволюция взглядов исследователей в понимании причин распада государства Чингисхана и его наследников. Особое внимание уделяется теоретическим основаниям исторических концепций распада Монгольской империи в отечественной и зарубежной историографии - от провиденциализма до современных подходов к изучению кочевых обществ и кочевых цивилизаций с позиции культурологии, социальной и политической антропологии. Представлена классификация причин распада крупнейшей империи Cредневековья, обусловленных рядом факторов экономического, политического, социального и культурного характера. Анализируются дискуссии по вопросу о продолжительности существования Монгольской империи.
Историография, монголоведение, великая монгольская империя, чингисхан, кочевые общества, распад
Короткий адрес: https://sciup.org/170168159
IDR: 170168159
Текст научной статьи Историография распада Великой Монгольской империи
О собой научной и политической значимостью всегда отличался вопрос о факторах устойчивости, целостности и единства государства, его способности противостоять внешним и внутренним угрозам. Фундаментальные свойства жизнеспособности политических структур отчетливо обнаруживаются в ретроспективном срезе причин распада государственных образований, занимавших господствующее положение и сошедших с исторической арены. В этом плане весьма показательным станет изучение опыта осмысления причин крушения Великой монгольской империи, объединившей огромные пространства Евразии, народы и государства различных культурных и цивилизационных ареалов.
Ориентиры поиска причин распада Великой монгольской империи были детерминированы как уровнем развития востоковедения в отдельных странах в различное время, так и общими представлениями о природе Монгольской империи и кочевых обществ.
Атмосфера страха перед варварским народом у границ европейских государств, именуемым «тартарами», способствовала осмыслению монгольского нашествия современниками в провиденциальном ключе – как «бич Божий» и «наказание за грехи». В этом плане показательной является эволюция восприятия монгольской власти на Руси и причин ее свержения. Изначально воспринимаемая как проявление «гнева Господнего», с конца XIV в. она предстает силой, призванной «разорить христианскую веру». Следовательно, и победа над монголо-татарами обосновывается божественной поддержкой. Этот локальный эпизод истории Монгольской империи ярко иллюстрирует провиденциальную объяснительную модель.
На рубеже XIV–XV вв. выдающийся арабский историк и философ Ибн-Хальдун предпринял комплексную попытку объяснения развития кочевого общества. Причину разрушения государств, созданных кочевниками, мыслитель видел в природе организации номадных обществ. Эволюционный путь развития скотоводов отличался от эволюционного пути земледельцев, которым присущ «органичный» путь создания государства. Кочевники же, объединяясь в систему родственных групп с общими интересами – асабийю, завоевывают земледельцев, создавая ксенократическое государство. Длительность существования такого государства ограничивается тремя-четырьмя поколениями. Первое поколение представляют завоеватели. Второе – живет в роскоши и изнеженности, усиливается неравенство среди завоевателей, в административных центрах формируются тенденции сепаратизма. Третье – еще больше утопает в роскоши, что является признаком усиления деградации и энтропии власти. В итоге, если государство не будет завоевано, с тем чтобы создать новый политический механизм, оно обречено на исчезновение [Крадин, Скрынникова 2006: 13-14].
Отождествление кочевников с варварами, для которых характерно доцивили-зационное состояние, было присуще европейским мыслителям XVIII – первой половины XIX в. Отнесение кочевников к доисторической стадии развития в концепции Г. Гегеля, сравнение их набегов с «опустошительным лесным потоком», который несет лишь разрушения, а затем опять исчезает, «так как нет в нем подлинного жизненного начала», исключает необходимость поиска причин крушения кочевых государств. Примечательно, что подобная традиция продолжается в работах А.Дж. Тойнби, где кочевники объявляются обществом, у которого нет истории [Тойнби 2010: 192].
В отечественном дореволюционном востоковедении Монгольской империи и причинам ее распада уделялось более пристальное внимание. М.И. Иванин писал, что политические правила, установленные Чингисханом для сохранения потомками огромной монархии, в самом основании носили зародыш разрушения. Установленное правило – избирать в ханы самых достойных из рода Чингисова было трудновыполнимо в последовавшие времена дворцовых интриг, когда собственная выгода и безопасность членов курултая требовали выбора в ханы людей слабого характера и ограниченных способностей [Иванин 2007: 50]. В.Л. Котвич отмечал, что монголы стали тонуть в инородной среде, составляя «ничтожное меньшинство» среди покоренных народов. Вместе с тем «долгие годы сравнительного спокойствия, с одной стороны, затушевали в глазах покоренных народов обаяние побед и ужасы жестоких расправ с непокорными, а с другой – потушили воинственный пыл в монгольском народе» [Котвич 1914: 7]. Н.Я. Коростовец связывает падение монгольской династии в Китае с раздорами в доме Чингисхана, вызванного спорами между родственниками из-за титула великого хана и чрезмерным выпуском бумажных денег, приведшим к инфляции, всеобщему обнищанию и недовольству [Коростовец 2004: 14]. Г.Е. Грум-Гржимайло объясняет причины падения Юаньской династии утратой навыков побеждать и военного опыта монголами, которые оставались монголами только по рождению. Этому же в немалой степени способствовали анархия, водворившаяся в империи, и непрекращавшаяся борьба честолюбцев при дворе [Грум-Гржимайло 1926: 509].
Академик В.В. Бартольд видел причины распада империи Чингисхана в разложении родовых отношений. Созданная империя рассматривалась как собственность всего правящего ханского рода. Экономическая самостоятельность и достаточность военных ресурсов правителей отдельных улусов обеспечивала им относительную автономность. Отпала необходимость в родовой солидарности, когда «отдельные царевичи получили возможность поддерживать свою власть в покоренных областях без помощи своих родичей; не сдерживаемые больше влиянием такой могучей, одинаково авторитетной для всех личности, какой был Чингиз-хан, они скоро сделались главами самостоятельных государств» [Бартольд 1968: 265]. Отсутствие согласованности и противоречия между правителями различных частей империи были углублены также тем обстоятельством, что они были воспитаны в различной культуре. Так, «в некоторых семьях… даже в семье второго кагана Угэдэя, одни сыновья получали христианско-уйгурское воспитание, другие – мусульманское, что, конечно, могло только содействовать раздорам и междоусобиям, и без того вызванным расширением пределов империи и отсутствием солидарности интересов» [Бартольд 1968: 264-265].
Академик Б.Я. Владимирцов, солидаризуясь с мнением В.В. Бартольда, добавляет, что Монгольская империя неизбежно должна была распасться, поскольку организация монгольского общества была основана не только на родоплеменных принципах, но и на феодальных [Владимирцов 1934].
В позднейшей советской историографии вопрос о распаде Монгольской империи рассматривался преимущественно с точки зрения формационного подхода и классовой борьбы. Поэтому главными причинами крушения военно-феодальной империи объявлялись: 1) борьба покоренных народов, стоявших в большинстве своем на более высоком культурном и хозяйственном уровне развития, с завоевателями; 2) жесткая эксплуатация трудящихся масс самой Монголии со стороны своей феодальной знати; 3) отсутствие прочных экономических связей между различными частями империи.
Альтернативная точка зрения в это время была сформирована в трудах представителей евразийской школы. Они считали, что благодаря монгольскому завоеванию Русь была втянута в общий ход евразийских событий, а Москва, в конечном итоге, стала наследницей монголов и приняла общеевразийскую объединительную роль. Так, Г.В. Вернадский отмечает, что с момента возникновения и на протяжении всего периода существования «монгольская империя была наполнена внутренними конфликтами и стояла перед лицом постоянно нарастающих противоречий» [Вернадский 1997: 136]. Угрозу распада империи, по его мнению, несли сами базисные принципы организации империи: несовместимость между имперской системой и феодальной природой монгольского общества; отсутствие «абсолютной согласованности действий» на уровне империи и ханств; обширность империи и «примитивность технологических условий».
По аналогии с явлением феодальной раздробленности Г.В. Вернадский рассматривает междоусобные войны преемников Чингисхана. Территория коренного улуса (в пределах нынешней Монголии) была объектом притязаний со стороны всех потомков Чингисхана, и фактически «центрально-азиатский регион стал полигоном монгольской феодальной политики, которая имела разрушительный эффект для имперского единства» [Вернадский 1997: 137].
Одной из важных причин ослабления империи стало разрастание правящего рода. Необходимость выделения каждому члену «золотого рода» военных и административных должностей в скором времени привело к замене правящего слоя «монгольской нации» родовой элитой. «Принимая это во внимание, можно сказать, что подъем влияния князей не мог не затронуть эффективность действий армии. В действительности оказались подорваны два важных принципа Чингисхана: равенство на службе и продвижение на основе способностей» [Вернадский 1997: 139].
В постсоветский период учение евразийцев оказалась востребованным в условиях поиска новой идеологии. А.Г. Дугин, рассматривая последствия монгольского влияния в геополитическом аспекте, отмечает, что «русские до Чингисхана – периферия Византии и Европы; русские после Чингис-хана – оплот Вселенской Империи, Новая Византия, последний Рим, абсолютный центр геополитической битвы за судьбы мира» [Дугин 2002: 283]. Следствием этого явилось Белое царство Московской Руси как полюс неовизантийски оформленной православной монголосферы. Согласно евразийской точке зрения, произошла своеобразная эволюция «духа», «миссии» и геополитики Монгольской империи в российскую государственность.
В западной историографии XX в. среди причин распада Монгольской империи выделяются разобщение улусов и влияние мировых религий, что способствовало развитию междоусобиц (Д. Чемберс), противоречие между кочевыми традициями и этатистским характером государства Чингисхана (Ж. Легран) [Лушников 2009: 39-41].
Монгольский историк Чулууны Далай обращает внимание на разгоревшуюся после смерти Мункэ-хана борьбу за великоханский престол. В оценке ученого главным отличием этой борьбы стал вопрос сохранения центра империи: «усилия Ариг-Бога, направленные на то, чтобы сохранить административный центр Монголии в Каракоруме, были положительным фактом для истории Монголии, а деятельность Хубилая, который перенес свою столицу в чужую страну, – отрицательным» [Далай 1983: 173]. Победа Хубилая имела глубокие последствия для исторических судеб собственно монгольского государства.
Рубеж XX–XXI вв. ознаменован усилением интереса к истории государства Чингисхана и его потомков. В отечественной историографии это было обусловлено отказом от марксистской парадигмы, открывшим новые перспективы исследования кочевых обществ. Ввод новых источников и переосмысление роли Монгольской империи в мировой истории, сопровождающиеся признанием Washington Post Чингисхана человеком тысячелетия и масштабным празднованием в 2006 г. 800-летия со времени образования Монгольской империи, вызвали всплеск интереса к изучению монгольского наследия среди зарубежных исследователей.
Дэвид Морган в статье «Упадок и падение Монгольской империи» исследует судьбу каждого из улусов, образовавшихся после распада империи в 1260 г. Преобладание внутренних факторов над внешними, по мнению Моргана, – общая характерная черта для всех четырех государств: династии Юань, державы Хулагуидов, Золотой Орды и Чагатайского улуса. Примечательно, что автор более раннее падение империи Юань и державы Хулагуидов в сравнении с Золотой Ордой и Чагатайским улусом связывает с тесным сращиванием кочевой элиты с господствующим классом оседло-земледельческих государств. Там, где сохранялся традиционный степной образ жизни (Золотая Орда и Чагатайский улус), государство кочевников имело более продолжительное существование [Morgan 2009].
П. Джексон на основе подробного анализа взаимоотношений между наследниками Чингисхана и системы престолонаследия приходит к выводу, что наследование в нарушение традиционных представлений о передаче власти часто приводило империю к междоусобным войнам [Jackson 1978].
Схожего мнения придерживается и Т. Барфилд. По его мнению, поддержание единства Монгольской империи с течением времени становилось все более затруднительным, преобладание местных интересов над интересами империи в целом было дополнено отсутствием четкой системы наследования, что вводило империю в длительный кризис, преодоление которого все чаще стало решаться военной силой [Барфилд 2009].
В 1995 г. исследователь из Тайваня Чхао Чху-ченг, проходивший обучение в аспирантуре в Казани, подготовил диссертационное исследование, посвященное теме распада сверхдержавы монголов в 60-х гг. XIII в., опубликованное в виде монографии в 2008 г. На основе сравнительно-сопоставительного анализа различных источников и широкого привлечения исследований китайских, монгольских и японских авторов, освещающих ситуацию распада Монгольской империи в силу отражения данных событий в используемой ими источниковой базе, были выявлены следующие комплексы факторов распада: «Экономические: возрастающая имущественная дифференциация; соперничество за влияние в торговой сфере; переход кочевников к оседлой жизни и стремление сохранить кочевой уклад, что приводило к социальноэкономическим противоречиям. Политические: наличие кризисов в политической системе Монгольской империи; несовершенство закона о престолонаследии; конфликты из-за традиционного представления о родовой собственности; столкновение интересов военно-политических группировок. Этнокультурные: конфликты между различными культурами и традициями; разрушение единства культуры самих монголов» [Чхао Чху-ченг 2008: 97-99]. Отмечая тесную взаимосвязь и взаимодействие указанных факторов, автор все же подчеркивает ключевое значение социально-экономических причин, предопределивших развитие новых феодальных отношений в недрах скотоводческого уклада, изначально конструировавшего политическую систему и культурное мышление монголов. Усиление сформировавшейся в результате этих процессов фео-дализирующейся монгольской аристократии на местах привело к нарастанию сепаратистских устремлений, «автономизации» улусов, разрушению духовного единства монголов и краху государственной идеи Чингисхана.
Дальнейшее осмысление вопроса на новом концептуальном уровне перевело обсуждение проблемы в теоретическую плоскость исследования кочевых обществ и кочевых цивилизаций с позиции новейших достижений в области геополитики, культурологии, социальной и политической антропологии.
Авторы монографии «Империя Чингис-хана» Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова выделяют наиболее общие причины распада, характерные для циклов развития любой империи, и непосредственные, касающиеся внутреннего развития Монгольской империи. Среди причин общего характера указаны сокращение поступления прибавочного продукта в метрополию извне, расширение территории империи выше оптимального предела. Основной причиной распада Монгольской империи, по мнению авторов, стала специфическая удельно-лествичная система наследования власти. Конкретной и непосредственной причиной стало распространение пандемических заболеваний, разрушивших глобальную мир-систему XIII–XIV вв. [Крадин, Скрынникова 2006: 486].
А.М. Хазанов выделяет три основных типа возникновения и эволюции кочевой государственности. В основе этой типологии лежит критерий степени взаимодействия кочевников и населения земледельческих государств. Завоевательные кампании и опосредованная эксплуатация ресурсов земледельческо-городских областей позволяли обеспечивать и поддерживать кочевую государственность первого типа. Единое монгольское государство ученый отнес именно к этому типу. С исчерпанием поступающих ресурсов дальнейшая эволюция кочевого государства подходит к своему завершению, либо оно продолжает развиваться, трансформируясь в оседло-земледельческо-городской тип общества или в государство второго типа, в котором и кочевники, и земледельцы были интегрированы в единую социально-политическую систему. По мнению исследователя, «прекращение широкомасштабных завоеваний совпало, и едва ли случайно, с началом распада империи» [Хазанов 2008: 262]. Судьба кочевой государственности в улусах империи после распада развивалась в рамках двух обозначенных типов.
Г.Г. Пиков с позиции культурологического анализа объясняет причины распада Монгольской империи тем, что кочевая организация времен Чингисхана достигла предела своего развития. Неспособные эволюционировать в иное политическое, экономическое, социальное и культурное состояние, кочевники стали включать в свои крупные государственные образования территории земледельцев. При этом военная мощь не была подкреплена объединяющей идеей. Полиэтничность и толерантность монголов обостряла межэтнические противоречия и конкуренцию мировых религий, в то время как мироустроительная функция монгольской культуры была еще недостаточна развита. Автор приходит к выводу, что евразийская империя в те времена была просто невозможной [Пиков 2011: 194-197].
В современной монгольской историографии распад империи Чингисхана рассматривается преимущественно как следствие борьбы за ханский титул между его потомками вследствие неотрегулированного порядка престолонаследия [Монгол улсын... 2003: 196].
В исследованиях обоснованно ставится вопрос о времени распада Монгольской империи. Часть историков полагают, что окончательное закрепление независимости улусов произошло после курултая 1259 г., во время которого правители улусов Джучи, Чагатай и Угедэй признали друг друга суверенными ханами, закрепив за собой этот титул, и объединились против великого хана. Другие, считающие указанное событие началом гражданской войны, после которой Монгольская империя была восстановлена в форме имперской конфедерации, называют в качестве верхней границы 1368 г., когда монголы утратили Китай. При этом отмечается сохранение в течение всего указанного периода общеимперской структуры над улусами, имперского центра и имперской идентичности. Вместе с тем присутствует мнение, согласно которому верхней границей существования Монгольской империи являются 1388–1389 гг., когда произошел официальный отказ от божественного мандата Чингисхана на мировое господство. Диалектика указанных вариантов привела к формированию компромиссной концепции о существовании двух Монгольских империй [Почекаев 2009].
Проведенный историографический обзор позволяет определить исследовательскую перспективу, состоящую, прежде всего, в комплексном изучении феномена Монгольской империи в категориях западной и восточной политических систем. Более детального анализа требуют цели и идеология завоевательной политики Чингисхана с определением наличия консолидирующих политикообразующих элементов. Исследования дореволюционных отечественных авторов ставят вопрос о том, была ли Великая Монгольская империя империей одного правителя. Ситуация и механизмы распада крупнейшей державы Средневековья требуют дальнейших комплексных исследований.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда. Проект №14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».
Список литературы Историография распада Великой Монгольской империи
- Бартольд В.В. 1968. Образование империи Чингиз-хана. -Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука. С. 253-265
- Барфилд Т. 2009. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. -1757 г. н.э.). СПб: Ф-т филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История. 248 c
- Вернадский Г.В. 1997. Монголы и Русь. Тверь: Леан, М.: Аграф. 480 с
- Владимирцов Б.Я. 1934. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР. 223 с
- Грум-Гржимайло Г.Е. 1926. Западная Монголия и Урянхайский край. Том второй. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л.: Типография Главного Ботанического Сада. 905 с
- Далай Ч. 1983. Монголия в XIII-XIV веках. М.: Наука. 232 с
- Дугин А.Г. 2002. Чингис-хан и монголосфера. -Русь Монгольская: Чингис-хан и монголосфера. М.: Аграф. С. 282-300
- Иванин М.И. 2007. О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингис-хане и Тамерлане. Улан-Удэ: Соел-Культура. 254 с
- Котвич В.Л. 1914. Краткий обзор истории и современного политического положения Монголии. СПб: Издание общества «Картографическое Заведение А. Ильина». 44 с
- Коростовец И.Я. 2004. От Чингис Хана до Советской республики. (Краткая история Монголии с особым учетом новейшего времени). Улан-Батор: ЭМГЭНТ. 560 с
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. 2006. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература. 557 с
- Лушников О.В. 2009. Монгольская империя в историографии XVIII-XX вв. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ. 116 с
- Пиков Г.Г. 2011. Европа и Монголы в XIII в. -История небесной империи. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН. С. 169-201
- Почекаев Р.Ю. 2009. Вторая империя Монголов: притязания и действительность. -Монгольская и Российская историография Великой Монгольской империи. Улан-Батор. Изд-во Института истории АН Монголии. С. 106-113
- Тойнби А.Дж. 2010. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс. 640 с
- Хазанов А.М. 2008. Кочевники и внешний мир. СПб: Филологический факультет СПбГУ. 512 с
- Чхао Чху-ченг. 2008. Распад Монгольской империи. Казань: Институт истории им. Марждани. 108 с
- Jackson P. 1978. The Dissolution of the Mongol Empire. -Central Asiatic Journal. Vol. 22. № 3/4. P. 186-244
- Morgan D. 2009. The Decline and Fall of the Mongol Empire. -Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. 19. Is. 4. P. 427-437
- Монгол улсын түүх. Дэд боть (XII -XIV зууны дунд уе). 2003. Улаанбатар. 537с