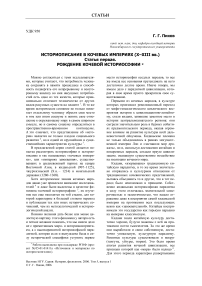Историописание в кочевых империях (X-XIII вв.) статья первая. Рождение кочевой историософии
Автор: Пиков Г.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736734
IDR: 14736734 | УДК: 950
Текст статьи Историописание в кочевых империях (X-XIII вв.) статья первая. Рождение кочевой историософии
РОЖДЕНИЕ КОЧЕВОЙ ИСТОРИОСОФИИ *
Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, что потребность человека сохранять в памяти прошедшее и способность подвергать его непрерывному и всестороннему анализу во имя насущных потребностей есть одно из тех качеств, которые принципиально отличают человечество от других видов разумных существ на планете 1 . В то же время историческое сознание не только помогает отдельному человеку обрести свое место в том или ином социуме и понять свое отношение к окружающему миру в самом широком смысле, но и самому социуму определиться в пространственно-временном континууме. А это означает, что представление об «истории» является не только плодом социального развития 2 , но и одной из крупнейших и существеннейших характеристик культуры 3 .
В предлагаемой серии статей делается попытка рассмотреть историософию и историо-писание в так называемых «кочевых империях», или «империях завоевания», существовавших в средневековый период на севере Восточной Азии, в киданьской (907–1125), чжурчжэньской (X в. – 1234) и монгольской державах (1280–1368).
Хотя исторические знания кочевых народов давно уже привлекли внимание исследователей 4 и даже были выделены в качестве феномена «кочевой историографии» 5 , их изучение все еще находится на той стадии, для которой характерны в большей степени перевод и публикации тех или иных исторических сочинений, чем их методологический и историо-логический анализ.
Помимо желания дать более или менее целостную картину этого феномена у автора есть и четкое желание показать, что мы имеем дело не с примитивным миро- и историовосприяти-ем, а с высокоразвитой историософской парадигмой, которая если и вынуждена была в силу исторической специфики уступить первое место историософии оседлых народов, то все же имела все основания претендовать на него достаточно долгое время. Иначе говоря, мы имеем дело с парадигмой цивилизации, которая в свое время просто прекратила свое существование.
Первыми из кочевых народов, в культуре которых произошел революционный переход от мифо-генеалогического циклического восприятия истории к цивилизационно-линейному, стали кидани, занявшие заметное место в истории центральноазиатского региона: они сыграли значительную роль в бурных событиях предмонгольского периода, оказав огромное влияние на развитие культуры всей дальневосточной ойкумены. Киданьские племена не только объединились в рамках могущественной империи Ляо и «заставили мир дрожать», но и, используя достижения китайцев и покоренных народов, создали яркую цивилизацию, оказавшую существенное воздействие на эволюцию кочевого мира.
Кидани, «взорвавшие» традиционную китайскую парадигму, в то же время значительно оторвались в культурном отношении от традиционных кочевнических представлений, пытаясь объединить то и другое, что в тот период было невозможно в принципе. Собственно киданьская историософская парадигма в силу этого отличалась значительной химеричностью и эклектичностью, что нашло отражение даже в восприятии самой киданьской империи на протяжении всех последующих веков как «завоевательной». Китайцы воспринимали это государство как горькую пародию на империю классическую.
Кидани знали китайскую культуру достаточно хорошо, будучи знакомы с ней на протяжении почти тысячелетия. За это же время они выработали и свою собственную, достаточно уникальную, культурную парадигму. Развитые культуры существовали и вокруг (тангуты, уйгуры, тюрки). Это было время апогея развития кочевой цивилизации, все признаки которой как «мира» были налицо 6 . Для этого периода характерно развертывание
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 1 © Г. Г. Пиков, 2006
нескольких векторов возможного развития. Тюрки будут создавать свой «мир» с центром в глубинных районах Азии, превратившихся из древнейших очагов цивилизации в «культурную руину» 7 . Вектор тюркской культурной экспансии в силу того, что их «мир» создавался на развалинах «халдейской» культуры и ею подпитывался, будет естественно направлен на Запад, на протяжении периода поздней античности и средневековья ставший воспреемником месопотамских культур. Восточноазиатские кочевники будут оспаривать китайскую парадигму. Фактически именно в этом регионе впервые вступили в противоборство «на равных» две цивилизации – конфуцианская и кочевая. Уже поэтому отношение к китайской культуре со стороны киданей, создавших первую, хотя и несовершенную, цивилизационную модель, будет непростым. Их противостояние с Китаем было не просто военным соперничеством, это было соревнование двух систем, двух векторов будущего развития Востока Азии. Этим и определяется во многом «непокорность» «северных варваров». Налицо стремление в рамках модели «чжун-го» / «тянься» («Срединного государства» / «Поднебесной империи») не просто сравняться с Китаем, но и «перегнать» его. Молодая ки-даньская империя не смогла выиграть это соревнование, как не сможет этого сделать и Золотая империя чжурчжэней, и лишь монголы, казалось бы, победят китайского Левиафана.
Вместе с тем и влияние китайской культуры на становление и развитие исторических представлений в Ляо бесспорно. Прежде всего, надо отметить, что для обозначения «истории» берется китайский иероглиф «ши» и тем самым историописание становится предметом заботы соответствующих чиновников 8 . Это означает, что задачи истории определяются предельно конъюнктурно и тенденциозно. Иначе говоря, история должна быть именно историографией, т. е. служебным описанием событий. Этот акцент на социальном в дальневосточной историософии сказывается уже в том, что, как заметил в свое время Н. Я. Бичурин, «китайцы представляют историю зерцалом, отражающим тень событий, происходивших в какой-либо стране» 9 .
В евразийских культурах сложилось два типа философии истории. Это спекулятивная мысль как философская рефлексия непосредственно самого прошлого, поиски скрытого его значения. Она представлена в виде религиозной (самый яркий пример – христианство, ищущее в человеческой, «профанной» истории следы промысла Божьего) и светской, формирующейся в Европе начиная с эпохи Возрож- дения (Г. В. Гегель, К. Маркс, О. Шпенглер, А. Тойнби). Во второй половине XX в. она была обвинена в получении псевдознания о прошлом, которое совершенно неверифици-руемо. Второй тип – критическая философия истории, полагающая перед собой задачу составить правдивый рассказ о прошлом, в силу чего главным своим занятием считает эпистемологию 10, пытаясь разобраться, как соотносятся язык историка и само прошлое 11.
В этом плане дальневосточная средневековая историография, в том числе китайская, киданьская, чжурчжэньская и монгольская, безусловно, относятся к первому типу. В них история разворачивается в двух основных сферах. Формирование ее как некой программы связано с Небом. Ее происхождение, цели и конкретные задачи человеку практически неведомы. Как и в западной традиции, люди должны учитывать «волю» сверхъестественного начала, которая изложена в авторитетных текстах, прежде всего в сочинениях Конфуция, разработавшего основы практической индивидуальной и социальной этики 12 . Еще Сыма Цянь историю представлял как действие непостижимой «небесной судьбы» 13 и развивал идею управления, основанную на конфуцианских принципах 14 .
Земная сфера представлена этнокультурной историей, в центре которой находятся политические проблемы. Особую роль играют правители, именно на этом уровне ярко проявляется сложность взаимодействия воли Неба, с одной стороны, и деятельности императора и интересов людей, с другой. Социальные и этнические катаклизмы как свидетельство отклонения от «воли Неба», т. е. набора прошедших апробацию традиций и рецептов, прямо указывают на существование и особую роль сверхъестественного начала. В дальневосточной цивилизации не появилась фигура Дьявола как антипода Бога, но и здесь налицо необходимый для развития культуры и общества дуализм базовых идей и эмпирического материала 15 .
Как в китайской, так и в кочевых историософиях налицо безусловное стремление создать максимально широкое историческое полотно, иначе говоря, описать историю как всемирную. Можно сказать, что они представляют не только две разных формы историопи-сания, присущие оседлому и кочевому обществам, но, в то же время, два этапа формирования единой восточноазиатской историософии.
Ханьская историософия появляется в период формирования первичных евразийских «миров» (в данном случае Римской и Китайской империй). Ее задачей было осмысление этнополитических и социокультурных процессов в ситуации, когда лидировал один этнос (римляне, ханьцы).
Принято считать, что труд Сыма Цяня (145? – 86? гг. до н. э.) «Ши цзи» («Исторические записки») знаменовал собой появление истории как особой сферы знания. Это уникальное сочинение преследовало цель создать «периодическую систему элементов» основных философских школ, которые были не просто различными идейно-политическими течениями, но в определенном смысле представляли собой различные векторы возможного развития, связанные с существованием множества субкультур (этнических, социальных и т. д.). Эта ситуация смысловой какофонии или информационного хаоса, когда предлагались разные варианты решений тех или иных проблем, наблюдалось разное отношение к «древности», соседям, социальным или этническим группам, политическим группировкам, в «лоскутной» цивилизационной ситуации было просто нетерпимо 16 . Метаистория выводила общество из ситуации противостояния в диалог, становилась необходимым дискурсом ответов.
Как и в Средиземноморье, все люди делились на две категории – «духовные» и «плотские». Поскольку «религиозные» идеи не существовали здесь в таком жестком варианте, как на Западе, то «правильность» человека и общества проверялась не через «веру», а через следование «дао», что было фактическим слоганом традиции. Не было здесь и фактической оторванности культуры от определенного этноса. Поэтому объединяющим символом здесь стал не конфессионем (христиане, мусульмане, буддисты), а этноним как географический символ (Хань, Ляо), сочетавшийся с названием династии (Цинь, Тан, Сун, Цзинь, Юань).
Еще одной задачей «отцов истории», как на Востоке, так и на Западе, было маркировать ойкумену как «мир», создать что-то вроде историко-культурного атласа, из которого было бы видно, какие «народы» населяют его, что между ними общего и различного. В условиях усложнения политической, социальной и экономической жизни нужно было утвердить иерархию социальных групп и доказать ее извечность, особенно императорской власти.
Задачами «исторических текстов» того времени были также решение на широком историческом материале важнейших мировоззренческих проблем (место и роль в политической и социальной жизни человека, народа, сверхъестественных сил и др.), показ эффективности выработанных морально-политических императивов, иллюстрация с помощью ис- торического материала базовых идей. Насколько гениально эти задачи были решены, показывает уже то, что классификация Сыма Цяня сохраняла свое практическое значение до конца прошлого столетия.
К началу II тыс. н. э. ситуация в Евразии в целом и на Дальнем Востоке в частности меняется принципиально. В Европе начинают самостоятельную историю западноевропейская («католическая») и восточнохристианская («православная») цивилизации. На Дальнем Востоке достигшая апогея своего развития кочевая цивилизация руками именно ки-даней начинает покорение оседлого мира. Ситуация напоминает так называемое «падение Рима», павшего в V в. «под ударами варваров», когда на самом деле происходило внешне катастрофоподобное расширение «средиземного» «мира» и германские племена перешли из внешней зоны («варварской периферии») во внутреннюю. Аналогичные процессы идут сразу на двух полюсах Евразии, в том числе и на территории Дальнего Востока с той разницей, что, если в Европе и на Дальнем Востоке прежде происходила сложная конвергенция оседлых народов (средиземноморские этносы, народы Центрального Китая) и номадов 17 (германцы, кельты, славяне, тунгусоманьчжурские племена), то теперь на территорию начинают проникать уже кочевники (тюркские, монгольские племена). Они переходят от тактики набегов и войн к фактическому переселению в южные плодородные районы.
В итоге Китай победит и его цивилизационная парадигма сохранит свое значение для региона на последующие столетия, но осуществится это ценой длительной «освободительной» борьбы против «варваров», которая завершится лишь в XX столетии (Синьхайская революция 1911 г.) 18 . Перед нами один из признаков формирования Восточноазиатской цивилизации (на базе прежней, ханьской).
Хотя Китай и «запаздывает» по сравнению с Европой, он не может воспользоваться ее опытом ассимиляции «варваров» не только из-за дальности расстояния, но и потому, что столкнулся с качественно иными «варварами», которые развивали принципиально иную экономику. Кочевой «мир», при всех своих тесных связях с земледельческим Югом, оставался его антагонистом.
Подчеркнем один из моментов этой ситуации – наличие информационного хаоса, когда усложняется взаимодействие не столько тех идей, которые более или менее мирно уживаются в упорядоченном земледельческом «мире», сколько осуществляется ментально-пас- сионарная атака со стороны «северных варваров», не обладавших, по мнению китайцев, никакой культурой. Для китайской культуры вызовом являлась уже сама по себе способность «бескультурных народов» осуществлять столь мощную экспансию и побеждать не «словом», а «делом», т. е. силой.
Неудивительно, что в этих условиях опять появляется потребность в «истории». Просто отмахнуться от кочевников как «варваров» было уже невозможно. Их государства начинают играть весьма заметную роль не только в политической, но и в культурной жизни региона. С другой стороны, и варвары, связанные с китайским миром многовековыми контактами, не только политическими, но и культурными, были заинтересованы в том, чтобы найти свое место в уже сложившейся исторической картине, ставшей итогом апробированного в самых различных ситуациях континуального воспроизведения некоего неизменного общественного, нравственного и духовного исходного «идеала». В этой ситуации гениальная этнокультурная «периодическая система» Сыма Цяня подходила идеально. Любопытно, что к ней обращаются как южане, так и северяне.
Историографическое «возрождение» периода кочевых империй породило такое любопытное явление. Трудами в значительной мере самих «северных варваров» в новых империях (киданьской, чжурчжэньской, монгольской и маньчжурской) была фактически модифицирована «династийная история» 19 , которая теперь уже посвящалась не только собственно китайским, но и «варварским» династиям. Кидани стояли в начале этого пути, не смогли до конца преодолеть его и чжур-чжэни 20 , лишь при монголах этот жанр обрел явственные черты 21 . Собственно «варварская» династийная история появиться не могла, ибо кочевники, хотя и пришедшие в качестве завоевателей, были тесно связаны с культурой всего дальневосточного региона. В результате династийные истории киданей, чжурчжэней и монголов стали составной частью комплекса из 24 династийных историй, сформировавшегося в Китае.
В историографическом ренессансе X–XIII вв. можно увидеть еще одну попытку евразийской исторической мысли придать истории всемирный характер. В I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. в исторических трудах элементы всемирной истории появлялись за счет включения мифов и легенд о древних временах 22. Представление о всемирности истории складывалось в рамках отдельных регионов, если так можно выразиться, по вертикали. Так, в рамках иудейско- христианской традиции складывается двухступенчатая модель: «священная история», или «божественная», основу которой составляли мифы, и последующая как профанная, или «человеческая». Об этом же говорят и такие конструкции, как «Восток – Запад», «оседлые – номады / кочевники», «земледелие – скотоводство», «империя – варвары» или «Север – Юг». О складывании представления о «всемирности» истории по горизонтали, т. е. о рассмотрении всей этнокультурной картины ойкумены свидетельствуют религиозные представления о необходимости «нести всей твари на земле истину» (евангелие, джихад).
В этом ряду исторические воззрения, постепенно складывающиеся в «империях завоевания», занимают особое место. Они свидетельствуют о появлении представлений о возможности конвергенции различных культур не за счет «поднятия» «варваров» до уровня «цивилизации», а путем диалога культур. Разумеется, в соответствии с уровнем развития истории того времени это выглядит как региональная монистическая модель истории, когда конвергенция мыслится лишь между близкими по духу и соседними культурами 23 .
Об этом свидетельствует и фактически развивающееся представление о мультилинейности исторического процесса. Если китайцы в рамках модели «империя – варвары» подразумевали фактически лишь вертикальное развитие народов, до уровня имперской культуры, то в «кочевых историографиях» 24 было предложено еще два варианта возможного будущего развития.
Во-первых, предлагается как антагонистическая иная схема существующего исторического развития (троичная модель): варвары – Китай – Ляо (или Цзинь, Юань). Конечно, эта схема свидетельствует об экспансионистских притязаниях кочевых империй, но важно, что предложен иной вариант развития. Прежняя схема (варвары – Китай) таким образом поставлена под сомнение и, следовательно, неизбежно исследование самой проблемы.
Во-вторых, кидани, воспринимавшиеся Китаем «варварами» и таким образом смотревшие на китайскую культуру как «чужие», увидели в ней то, что сами китайцы предпочитали не замечать, а именно сосуществование на восточноазиатском пространстве различных культур. Отсюда, естественно, делался вывод не об извечности и вечности китайской культуры, а об ее историчности, о возможности и даже неизбежности ее исчезновения и, следовательно, замены более совершенной социокультурной моделью.
Если учесть, что подобные представления появились не в рамках самой китайской культуры, а за ее пределами, то это можно воспринимать как мощную культурную атаку со стороны «варваров» (прежние «варвары» пытались соревноваться с Китаем практически лишь в военном отношении) 25 . Фактически именно кидани первыми предложили воспринимать китайскую культуру как одну из множества других восточноазиатских культур. В рамках империи история неизбежно понимается как движение вперед, и поступательное развитие истории возможно лишь благодаря включению в «исторический» процесс других народов – это главное условие универсальной картины истории. Если китайская историография дуалистически разделила все этносы на две неравные части – ханьская цивилизация и прочие «варвары», то кидани этого сделать не могли. Не только китайская, но и культуры других восточноазиатских народов (тангутов, уйгуров и др.) отличались высоким уровнем своего развития и заметной уникальностью 26 . Да и кочевники, являвшиеся самой значительной частью населения империи, никак не могли считаться киданями примитивными. В целом можно говорить, что именно в рамках киданьской культуры впервые, хотя и на региональном уровне, сложилось представление о том, что позднее в рамках российской культурологической мысли получило наименование культурно-исторических типов 27 . И даже то, что каждая из кочевых империй воспринимала себя как самостоятельную, показывает: кочевые историки обращали внимание на многофакторность сценариев развития, даже строили прогнозы и давали рекомендации, которые предусматривали бы не один, а несколько путей возможного изменения социальных и политических процессов 28 .
Кидани еще не столкнулись в полном объеме с теми проблемами, которые порождает имперская форма государства. К тому же они строили не классическую империю. Во многом эти проблемы были малопонятны чжур-чжэням и даже монголам. Но все три государства вынуждены были считаться со своим «варварским» прошлым и кочевым сектором своего населения. По этим причинам родоплеменная общественная структура не могла не быть сохранена, и, в то же время, они пытались использовать преимущества китайской политической организации и политики. В полном объеме этот опыт еще не нужен был ни киданям, ни их преемникам, но национальная политика китайцев и их историко-философская парадигма привлекали кочевников.
В этом смысле они и видели необходимость использования письменной истории 29 .
Однако династийная история как основной вид исторического текста достаточно специфична 30 . Она составлялась по определенной схеме, которая была задана Сыма Цянем и с некоторыми отклонениями сохранялась столетиями. Основные разделы «истории» – «бэнь-цзи» («основные анналы»), «бяо» («таблицы»), «чжи» («трактаты»), «лечжуань» («жизнеописания») 31 . Это давало возможность максимально подробно рассмотреть различные проблемы, связанные с государством.
Для династийной истории характерен преимущественный интерес к цивилизационным институтам и культурной истории. Ее особенность в том, что информация бралась исключительно из официальных и государственных бумаг, составленных ученой элитой общества.
Как и в Китае, история в кочевых государствах воспринималась как зеркало, отражающее события в той или иной стране 32 . Вот почему они заимствовали не только формы исторических сочинений, но и их специфический язык, особый тон выражений 33 , основы которого заложил Конфуций, сформулировав ряд формул и выражений. Если власть правившего императора была сильна, годы его правления писались большими иероглифами, если нет – малыми. Специальные выражения существовали при смене императора: вступил на престол, сдал престол, наследник вступил на престол (при живом государе). Если государь умирал – преставился, «скончался» (измененное положение), если погиб насильственной смертью – «умерщвлен». Такую-то супругу постановил Императрицей – законно, постановил императрицей по фамилии такую-то – измененное положение. Если чиновник «уволен» или «заслуживает увольнения», то он в чем-либо виновен. «Исключить такого-то из списков» – невиновен, а если «такой-то исключен из списков», то виновен. Если речь идет о масштабной и аргументированной войне, то используются выражения «воевать», «усмирять оружием», если о небольшой – «напасть, ударить, атаковать», если осуществляется набег – «внезапно напасть».
Поскольку династийные истории составлялись окончательно при последующих династиях, то описываемая династия подвергалась достаточно квалифицированному и полному разбору именно с точки зрения административной. Элементы исторической критики, присутствующие здесь, безусловно, были ограничены рамками преимущественно конфуцианского морализма. Задача сводилась к тому, чтобы «выправить имена», т. е. дать «пра- вильную оценку» событиям и фактам. Выводились определенные общественные типы – добрый чиновник, злой чиновник, отшельник, литератор и др. Исторические труды до сих пор воспринимаются порой как своеобразные учебники «дао» и «дэ» 34.
Для каждой китайской династии появлялся в средние века свой слоган: для первой (Ся) – «искренность», выродившаяся в «дикость», для Шан – «почтительность», выродившаяся в «суеверное почитание духов», для Чжоу – «цивилизованность», выродившаяся в формальное соблюдение правил. Хань вернулась к «искренности». Таким же образом впоследствии «варварские» династии были обозначены как «деспотические» 35 .
Как и в западной цивилизации, происходила сакрализация личности правителя, но здесь он выступал не как «помазанник божий», а как «избранник Неба». Небо останавливало свой выбор на том правителе, который обладал благой силой «дэ», лишь она давала ему право на занятие престола. Признаком обладания ею была преданность претендента базовым ценностям. Если, став правителем, он отходил от них, то терял свою силу, тем самым и право на обладание престолом.
Одной из важнейших задач чиновников «ши» был анализ достижений и упущений правителей прошлого, выяснение причин обретения власти или ее утраты, обобщении политического опыта для правителя, находящегося на престоле 36 . Так, Е Лун-ли, подводя итоги рассказу о периоде правления последнего киданьского императора Тянь-цзо, делал далеко идущие выводы: «как говорит предыдущая история, если гибнет одна деспотическая династия, на смену ей обязательно приходит другая, поэтому Агуда, живший при императоре Тянь-цзо, – это тот же Абаоцзи, живший при Поздней династии Тан» 37 . В сун-ской историографии родился принцип, воспринятый и кочевыми историками – приносить пользу делам правления «цзин ши чжи юн» и «бяо бянь» (хвалить достойное и осуждать дурное). Кочевники восприняли и китайское обозначение этой деятельности – «ши-сюэ» (историография, историописание).
Идеалом восточноазиатского общества в целом и киданьского в частности была прогрессистская модель истории, центральной для которой является период природной и социальной гармонии, достичь которого возможно только в рамках определенной культуры 38, в понимании киданей именно киданьской. Главным социокультурным принципом поэтому становится «справедливость», с помощью которой добро награждается, а зло наказуется, обеспечивается справедливость социальная (за счет сохранения исконного порядка) и политическая, доказывается «правота» перед Небом. Именно так происходит объединение пестрой людской массы в «мы» и создается так называемая «коннективная структура» общего знания, опирающегося на подчинение общим правилам и общим ценностям и на сообща обжитое прошлое 39.
Надо заметить, что знакомство кочевников с китайской литературой несомненно сложно отразилось на развитии их восприятия истории. Расширился и углубился круг затрагиваемых проблем, безусловно богаче стало содержание их сочинений. Кочевые историографы ввели в обычную практику ссылки на самые различные китайские работы, начиная с классической древности и кончая современностью. Многие персонажи китайской истории становились своеобразными образцами для подражания. Включался материал по истории Китая и сопредельных территорий, тем самым можно говорить о существенном расширении этнополитического и культурного горизонтов кочевых народов. Кочевые империи стали источником новой информации о мире для многочисленных племен Монголии, Сибири и Средней Азии. Можно, в соответствии с тремя династиями, выделить три этапа увеличения информации, что позволяет говорить о том, что эта информация не обрушилась лавиной на кочевой мир, а усваивалась им постепенно и основательно. В итоге можно говорить, что тем самым кочевниками активно осваивалась базовая культура всего метарегиона.
Однако и здесь возникает любопытное явление. Мы видим, что в рамках кочевой историографии, как это будет более подробно показано в следующей статье, акцент делался на практической стороне историописания, его методах, структуре исторических текстов и т. п., тогда как базовые ценности китайской историографии встречали достаточно серьезное сопротивление (прежде всего само представление о Китае как центре ойкумены). Вероятно, здесь дело не только в политических притязаниях Ляо. Мы наблюдаем достаточно часто встречающееся явление в рамках практически любой цивилизации. На первых порах, когда создается новый «мир» внутри прежнего, более обширного, идет обращение к идеологии метарегиона в целом. Этот «подражательный» период позволяет заложить основы новой культурной парадигмы и максимально использовать базовые общецивилизационные представления, но впоследствии новая, более локальная парадигма обязательно вступает в конфликт со своей «матерью».
Конфликт между идеологией метарегиона в целом и отдельными культурами (этническими, национальными, социальными) обязателен для цивилизации и способствует развитию отдельных районов.
По указанным причинам кочевая историография развивалась преимущественно как государственная историография и, видимо, следует признать, что государственное историо-писание является феноменом, свойственным не только императорскому Китаю 40 , но и всей Восточной Азии. «Клио предпочитала чиновничий халат» в Восточной Азии в целом.
В период развития «цивилизаций» решающую роль играют не социальные теории, а религиозные и философские системы 41 , важнейшим моментом в которых является сложное понимание причинно-следственного порядка. Происходит разрыв этой цепочки: причины – прерогатива «Неба» («Бога»), а следствия проявляются в земной («профанной», «человеческой») жизни 42 . В христианской традиции это нашло отражение в двух базовых идеях («догматах») цивилизации – креационизме («творении») и провиденциализме («промысле Божьем» как «помощи» человеку) 43 . Вся «история» – это не только период «исправления» человека, избавление от тяжести «первородного греха», но и время сложного взаимодействия «Бога» («Неба») и «Человека», «вызовов» Человека Богу (Небу) и ответных «реакций» Бога (Неба) 44 .
Восточноазиатская цивилизация не делала акцента на онтологии и потому идея креационизма не получила широкого распространения, а «Воля Неба» начала и конца не имела, поэтому «история» стала не связным рассказом от «Первородного Греха» до «Страшного Суда», а исследованием отдельных сегментов исторического процесса. Возможно, слово «исследование» в данном случае не совсем удачно, ибо исторический дискурс, достаточно широко распространенный и на Западе и на Востоке в древности, в средневековый период становится почти исключительно описанием, а история как объяснение исчезает из практики, вернее, спускается с космологического уровня на этнополитический 45 .
Идея неизбежности смены правителей и возможность для общества обрести самого достойного способствовала существованию чувства «исторического оптимизма». А если и возникал династийный кризис, то его причинами считались не социальные или политические конфликты, а утрата правителем «Мандата Неба», потеря им силы «дэ» 46. Такой подход изначально блокировал необходимость каких бы то ни было социальных или полити- ческих изменений, социальных и революционных движений.
Важнейшей задачей, стоящей перед историками, было доказать легитимность правящей династии, включив ее в цепь исконных китайских династий. Прорыв в этом направлении, безусловно, сделали кидани, и о степени их успеха в этом отношении можно судить уже по одному тому факту, что династия Ляо, а вслед за ней и чжурчжэньская династия Цзинь и монгольская Юань, до сих пор считаются китайскими.
Кочевники использовали специфику китайской историко-политической доктрины, чтобы вписаться в историю восточноазиатской цивилизации, войдя в нее своеобразным «троянским конем». Они знали, что Китай не принимал ситуацию безвременья в принципе и, когда прекратила свое существование Тан-ская империя, приняли самое активное участие в «конкурсе» на освободившееся место в династийной цепочке и в конце концов победили слабые собственно китайские династии. В значительной степени спекулировали они и тем обстоятельством, что династии не обязательно должны были быть генетически связаны друг с другом, что престол они получают не друг от друга, а от самого Неба. Именно кидани впервые фактически поставили ребром вопрос о том, а почему правителем не может быть представитель «варваров». В итоге рождается идея « translatio imperii sinicorum », и стоит заметить, что ее сформулировали не сами китайцы, а именно северные «варвары». Если в Европе « translatio imperii romanorum » («возрождение римской империи») проходило после гибели Западной Римской империи, то на Дальнем Востоке «возрождение китайской империи» проходило при «живой» китайской империи, на Западе внутри оседлого мира, а здесь – практически за его пределами 47 . Вдобавок на территории киданей была особая экономическая и этническая ситуация, где «классическая» империя просто не могла существовать. Можно сказать, что с киданей начинается формирование «северного» варианта «империи», что найдет то или иное воплощение в империях Ляо, Цзинь, Юань и Цин. «Южный» вариант некоторое время будет представлен в империях Сун и Южная Сун и частично воспроизведен в империи Мин. В итоге «историческими народами», т. е. народами, творящими историю, наравне с китайцами станут и северные народы (кидани, чжурчжэни, монголы, маньчжуры).
Материал поступил в редколлегию 26.01.2006
-
1 Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 193; Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 5; Антипов Г. А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 1987. С. 89; Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. М., 1990. Т. 1. Даже в художественной литературе отрицание прошлого, его полное забвение есть признак манкурта, который в силу этого сам себя не осознает человеческим существом ( Айтматов Ч. Роман «Плаха»).
-
2 Савельева И. М., Полетаев А. В . История и время: в поисках утраченного. М., 1997; Уколова В. И. Исторические судьбы познания истории // Проблемы исторического познания: Материалы междунар. конф. М., 1999. С. 178.
-
3 Более подробно см.: Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете // Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2002.
-
4 См.: Пучковский Л. С. Монгольская феодальная историография XIII–XVII вв. // Уч. зап. Ин-та востоковед. М.; Л., 1952. Т. 6; Златкин И. Я. Обзор историографии Монголии // Сов. ист. энцикл. М., 1966. Т. 9. С. 611–617; Бира Ш. Монгольская историография (XIII–XVII вв.). М., 1978; Wittfo-gel K. A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society – Liao (907–1125). Philadelphia, 1946. P. 468–469, 610–614; Heissig W. Die Familien und Kirchen-geshichtsschreibung der Mongolen. Wiesbaden, 1959, 1965. Bd. 1, 2.
-
5 Бира Ш. Указ. соч. С. 9.
-
6 Пиков Г. Г. О специфике изучения средневековых культур (на материале культуры киданей) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. Новосибирск, 2005. Т. 4. Вып. 1: История. С. 57–58.
-
7 См. подробнее: Пиков Г. Г. Проблема падения Византии в общем контексте ее развития // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. Новосибирск, 2005. Т. 4. Вып. 2: История. С. 17.
-
8 Доронин Б. Г. Историописание в императорском Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 6. С. 140.
-
9 Иакинф. Основные правила китайской истории, первоначально утвержденные Конфуцием и принятые китайскими учеными // Моск. телеграф. 1828. № 22. Нояб. С. 1.
-
10 Об эпистемах см.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.
-
11 В 80-х годах XX в. Школой «Анналов» была предложена новая метафора – «история молчаливого человечества» как «море, на поверхности которого плавают исторические события, а в глубине лежит анонимный народ». Цит. по: Анкер-смит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 18.
-
12 Разумеется, нужно учитывать и то, что официальная идеология императорского Китая не основывается только на конфуцианстве, а в значительной степени связана с базовой доктриной императорской власти ( Мартынов А. С. Официальная идеология императорского Китая // Государство в
докапиталистических обществах Азии. М., 1987. С. 277–279, 285; Он же. Представление о природе и мироустроительных функциях власти китайских императоров в официальной традиции // Народы Азии и Африки. 1972. № 5; Он же. Конфуцианство. «Лунь юй». СПб., 2001. Т. 1, 2).
-
13 Малявин В. В . Китайская цивилизация. М., 2000. С. 206.
-
14 Кроль Ю. Л. Сыма Цянь – историк. М., 1970. С. 84.
-
15 Более подробно см.: Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете.
-
16 Не случайно на обоих полюсах Евразии в качестве практического предлагается принцип «любви», основывающийся на «золотом правиле этики» («не делай другому того, что не хочешь себе»).
-
17 Здесь есть смысл отличать «номадов» и «кочевников». Номадная экономика, прекрасно описанная древнегреческими авторами, – это, строго говоря, присваивающая экономика, когда родоплеменные группы переходят с места на место, придерживаясь комплексной экономики, тогда как кочевники «шли вслед за скотом» и, таким образом, основой этой экономики было именно скотоводство, требовавшее соответственно особой природно-климатической зоны.
-
18 Для Рима и Византии тоже понадобился ряд столетий для победы над «варварами». Renovatio («возрождение») как «возвращение в первобытное состояние», по мнению итальянских гуманистов, состоится только к середине XVI в. Промежуточное время они и назовут «средними веками». Здесь есть смысл увидеть еще одно из значений этого выражения, обозначающего таким образом, помимо всего прочего, время непосредственного взаимодействия двух цивилизационных зон.
-
19 «Чжэн ши» – «официальная история».
-
20 Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.). М., 1983. С. 209–210.
-
21 Бира Ш. Указ. соч.
-
22 Бентли Д. Образы всемирной истории в научных исследованиях XX века // Время мира: Альманах. Новосибирск, 1998. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. С. 29.
-
23 В Китае в это время тоже налицо интерес к всеобщей истории. Танский историк Лю Чжицзи (VIII в.) создал первую всеобщую историю, состоявшую из 35 основных и 13 дополнительных рубрик. В XI в. Сыма Гуан написал всеобщую историю в виде хроники.
-
24 Бира Ш. Указ. соч.
-
25 Крадин Н. Н. Империя Хунну. М., 2001. С. 99.
-
26 Это не отрицает и того, что в рамках восточноазиатского региона как особого «мира» в ряду других евразийских «миров» для всех его частей и уровней характерен больший или меньший изоморфизм, иначе говоря, наличие тех культурных особенностей, которые дают основание выделять эти народы совокупно в качестве самостоятельной цивилизации.
-
27 Интерес к другим народам говорил и о том, что киданьским историкам было интересно, как их собственный опыт вписывается в более широкую
схему. Можно сказать, что, делая заготовки для будущей династийной истории, они проводили предварительную апробацию этого образцового исторического конструкта.
-
28 В этом плане можно видеть зарождение в кочевой историографии элементов такой сферы исторического знания, как виртуалистика (от лат. virtualis – возможный).
-
29 На первом месте прикладная функция истории – поставлять знания, которые можно использовать в настоящем ( Савельева И. М., Полетаев А. В. Прагматика истории // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2003. Вып. 10. С. 10).
-
30 На Западе тоже было стремление свести историю к «истории династий» ( Dynastengeshichte ) как своеобразной теории ведер, передаваемых на пожаре из рук в руки ( Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. С. 121).
-
31 Вяткин Р. В. О традициях в китайской историографии // Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972. С. 187; Доронин Б. Г. Китай XVII–XVIII веков. Проблемы историографии и источниковедения. Л., 1988. С. 66.
-
32 Иакинф. Указ. соч. С. 1.
-
33 «Измените тон сей, и тогда каждое перемененное слово должны будете заменить объяснением , разрывающим единство повествования, а без сих объяснений события потеряют существенную часть исторической своей истины, потому что правительством утверждено употреблять известные слова для событий, воспоследовавших на основании общих законов, и другие слова для подобных же событий, воспоследовавших от случайных или предосудительных причин. Сей тон, в первом случае, называется историческим положением , а во втором изменением исторического положения » ( Иакинф. Указ. соч. С. 4).
-
34 Доронин Б. Г. Китай XVII–XVIII веков. С. 4.
-
35 Е Лун-ли. История государства киданей (Ци-дань го чжи) / Пер. с кит., введ., коммент. и прил. В. С. Таскина. М., 1979. С. 224.
-
36 Разумеется, речь не может идти только об интересах правителей. Исторические тексты в целом посредники между прошлым и настоящим. Они как
механизм интерпретации прошлого создают образ «прошлого» – то, что надо знать современнику о прошлом ( Кемеров В. Е. История // Современный философский словарь. М., 1998. С. 377). Акцент делался именно на «современной истории», которая, как и для западных средневековых историков, была «видимым следом ближайшего прошлого – последние пятьдесят, десять лет, год, месяц, день, возможно, истекший час или минута» ( Кроче Б. История, хроника и ложные истории // Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб., 1999. С. 175).
-
37 Е Лун-ли. Указ. соч. С. 224.
-
38 Рыкин П. О. Монгольская средневековая концепция общества: некоторые ключевые понятия (по материалам «Тайной истории монголов» и других среднемонгольских текстов). СПб., 2004.
-
39 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 16.
-
40 Доронин Б. Г. Китай XVII–XVIII веков. С. 13.
-
41 Конфуцианство в данном случае ярко демонстрирует возможность соединения в рамках одной конструкции и религиозных представлений, и философских идей.
-
42 Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете.
-
43 См.: Пиков Г. Г. «Сакральное» и «секулярное» в «христианской» культуре // История и теория культуры в вузовском образовании. Новосибирск, 2004.
-
44 Барг М. А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. С. 23.
-
45 Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история. СПб., 2003. Т. 1: Конструирование прошлого. С. 318.
-
46 Весь исторический процесс делился на ряд циклов – от обретения тем или иным правителем «Мандата Неба» (Тянь мин) до его утраты. В единую цепь династийные звенья объединяла концепция «ортодоксальной преемственности власти» (чжэн тун).
-
47 Западные кидани вообще понесут эту идею в кочевой тюркский мир.