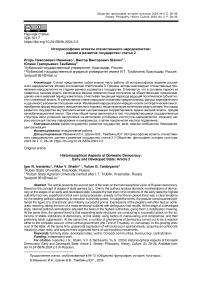Историософские аспекты отечественного народовластия: раннее и развитое государство: статья 2
Автор: Иваненко И.Н., Шалин В.В., Тамбиянц Ю.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой вторую часть работы об историософском видении российского народовластия. Исходя из концепции стейтогенеза Л. Гринина, авторы анализируют отечественные проявления народовластия на стадиях раннего и развитого государства. Отмечается, что в условиях первого из названных высшая власть располагала весьма поверхностным контролем за общественными процессами, однако уже в киевский период наметилась отчетливая тенденция перехода ведущей политической субъектности к княжеской власти. В субъективном плане народным сознанием предпочиталась фигура харизматичного и удачливого в военном отношении князя. Изъявления народной воли нередко носили охлократический смысл, приобретая форму массового эмоционального порыва с неоднозначными конечными результатами. На стадии развитого государства внутриполитическая централизация скорректировала задачи высшей власти, придав им мобилизационный смысл. При этом общий тренд заключался в том, что разрастающиеся государственные структуры вели успешное наступление на автономию устойчивых институтов народовластия, поначалу широко используя тактику лавирования и компромисса, а затем предпочитая жесткое подавление.
Ранее государство, развитое государство, вече, казачьи сообщества, бюрократия, централизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149145339
IDR: 149145339 | УДК: 321.7 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.3
Текст научной статьи Историософские аспекты отечественного народовластия: раннее и развитое государство: статья 2
Продолжение статьи, опубликованной в № 12 «Общество: философия, история, культура». © Иваненко И.Н., Шалин В.В., Тамбиянц Ю.Г., 2024
В предыдущей статье нами была предложена определенная концептуализация народовластия в качестве историософского феномена (Иваненко и др., 2023). Отталкиваясь от его расширенного понимания, мы включаем сюда основанные на горизонтальных связях демократические формы, а также структуры, предполагающие доминирование отношений господства-подчинения. Народовластие, как и инициирующая определенный тип политического режима государственная власть, вполне может иметь жесткий авторитарный смысл, что отмечается некоторыми исследователями данного явления (Зиновьев, 1994; Алексеев, 1998; Полосин, 1999; Кара-Мурза, 2008). Мы определяем данный феномен как спонтанно образующиеся социальные практики и институты, связанные с организацией власти и управления, обязательно предполагающие широкое коллективное (массовое) участие, а также согласие и одобрение большинства окружающих. В приведенной дефиниции предполагается, что весомая инициатива низов переплетается обычно с импульсами, исходящими от центральной власти, что актуализирует методологию рассмотрения народовластия в контексте конкретных политических процессов (политогенеза), в нашем случае – отечественного. Народовластие исторически изменчиво в ряде содержательных аспектов, однако в целом сохраняет определенное постоянство форм, среди которых мы выделяем корпоративное народовластие, формы общественных движений и местного самоуправления. Ход отечественного политогенеза вполне соответствует модели эволюционных стадий государства волгоградского социального философа Л. Гринина. Данная модель рассматривалась нами в предыдущей статье, где также были представлены ключевые факторы, влияющие на характер российской государственной власти (Иваненко и др., 2023). Согласно данной модели, эволюция государственности (стейтогенез) проходит три стадии – раннее государство, развитое государство, зрелое государство (Гринин, 2006). В настоящей статье мы ставим целью выявление содержательного смысла динамики российских структур народовластия на стадии раннего и развитого государства, что предполагает исторический охват почти тысячелетнего временного отрезка – от идентификации в исторических источниках государства Киевская Русь до начала царствования Александра I. Фактически это период существования доиндустриальной России с основной ставкой на сельское хозяйство, различными вариациями сословной структуры, наконец, последовательной эволюции высшей власти от дружинной княжеской до самодержавной императорской. Естественно, что задачи настоящей статьи оказываются привязанными к указанным стадиям – сначала мы проанализируем динамику народовластия в раннем государстве, затем займемся рассмотрением того же аспекта общественных отношений уже в развитом государстве.
Итак, стадия раннего государства характеризуется весьма поверхностным охватом властных структур общественной жизни, в силу чего Л.Е. Гринин оперирует описательными категориями «неполное» и «недостроенное» государство (Гринин, 2006: 11). По сути, государство и общество на данной стадии как бы присматриваются и приспосабливаются друг к другу, вырабатывая совместные формы и механизмы взаимодействия. Во многом и общество, и государство живут самостоятельной жизнью, а их отношения, скорее, фрагментарны, нежели системны. Политическая система во главе с киевскими князьями только надстраивалась над обществом, она не проникала глубоко в социальные процессы, проходящие на более нижних уровнях, ограничиваясь военными и перераспределительными задачами, что сводилось обычно к сбору дани, повинностей и пошлин (Гринин, 2007: 123).
В силу недостаточности источниковедческой базы киевский период отечественной истории вызывает неоднозначные, порой совершенно противоположные оценочные трактовки, во многом связанные именно с вопросами народовластия. Концепция санкт-петербургских историков И. Фро-янова, А. Дворниченко и др. утверждает доминирование так называемого волостного строя, сложившегося еще в предкиевские времена. В основе его лежала гражданская община, концентрируемая в главном волостном городе, которому подчинялись сельские общины и «пригороды». То есть налицо была система соподчиненных общин, управляемая волостным вече (Фроянов, Дворни-ченко, 1988). Рассматривая отечественную историю через противостояние волостной (земской) и государственной традиции, сторонники этой концепции считают, что именно киевский период характеризуется превалированием земщины, в целом подчинившей даже княжескую власть. Лишь на последующих исторических этапах усиливающееся государство сумело взять верх над ней. А. Дворниченко оценивает период существования Киевской Руси как «очень симпатичный»1. Ведь тогда жители сообща смогли ставить под контроль власть князя, а в некоторых случаях (как в Новгороде) даже наложить на нее довольно жесткие ограничительные рамки, направляя ее в исключительно функциональное русло. Причем перевес власти городов в том числе подкреплялся военными аргументами в виде местного или «земского» боярства, выходцев не из дружины, а из родоплеменной знати (Фроянов, Дворниченко, 1988).
Нам представляется, что в такой трактовке имеется стремление выдать желаемое за действительное. Если отталкиваться от исторических фактов, то Киевская Русь являлась ранним государством дружинного типа (Гринин, 2007; Горский, 2010 и др.), что предполагало упор на военную составляющую. Киев X–XI вв., контролируя путь «из варяг в греки», был одним из богатейших городов раннесредневековой Европы, а потому мог позволить себе содержание элитных воинов-профессионалов, составляющих дружины, охотно поступающих к нему на службу варяжских ярлов и конунгов. Это обеспечивало военный перевес Киева над другими славянскими объединениями, и в данном обстоятельстве А. Горский видит главную причину собирания восточнославянской территории в одно государство (Горский, 2010: 35). Положение стало меняться после упадка торгового пути «из варяг в греки» (Нефедов, 2010 а: 129), что ознаменовалось ослаблением киевской власти начиная с XII столетия при одновременном усилении удельных центров. Но применительно к X–XI вв. в русских городах связующим звеном между княжеской властью и городской средой служила должность тысяцкого, замыкающая на себе вопросы военной организации населения города, управления и торгового фиска. Ее занимали близкие князю дружинники – бояре, реализующие его политическую волю. Оппонент волостного подхода А. Горский не без оснований заключает, что лица, «предлагаемые» в качестве общинных лидеров, на поверку оказывались княжескими людьми (Горский, 2010: 72).
Тем не менее, как присуще раннему государству, политическая система киевских князей только надстраивалась над обществом, не проникая глубоко в социальные процессы, проходящие на более нижних уровнях. Общество Киевской Руси действительно во многом жило собственной жизнью, в нем функционировали многие традиционные институты, среди которых видная роль принадлежала вечевым народным собраниям. Институт вече можно рассматривать как платформу, где встречались и разным образом взаимодействовали волевые устремления князей, поддержанных дружинной элитой, а также народных масс. Однако какова же была подлинная роль данного института, насколько оправдан тезис о господстве волостного строя, которому якобы вынуждены были подчиняться даже князья?
Дореволюционный историк М.А. Дьяконов считал, что вече характерно для периода слабой, еще неокрепшей государственной власти, которая пока что не сформировала в достаточной степени сильные исполнительные органы. «Князь же со своей стороны постоянно нуждался в поддержке народа, так как не располагал достаточными собственными средствами для проведения в жизнь тех или иных мер против желания народа» (Дьяконов, 2005: 100–101). Однако со временем вече как институт народоправства претерпевал определенную эволюцию, встроенную в общую канву отечественного политогенеза.
Наш современник М. Свердлов уверен, что вопрос о власти в Древнерусском государстве был однозначно решен в пользу правящего класса, что иллюстрирует определенное политическое оскопление вече. В X–XI вв. прекращается практика вечевых собраний при решении государственных политических и судебных вопросов, которые переходят в компетенцию княжеского административно-судебного аппарата. Простое свободное население теряет право участия в политическом управлении в силу деформации института племенного народного собрания. Последние же как форма общинного самоуправления «продолжали сохраняться в кончанских вече крупных городов и общинных сходках сельской верви, косвенными свидетельствами чего являются признание верви как юридического лица в отношениях с княжеской властью и в то же время осуществление ею функций самоуправления и суда по отношению к своим членам…» (Свердлов, 1983: 56). Не располагающая пока еще сложными управленческими механизмами центральная власть возложила на общину-«вервь» главные функции внутреннего управления, почти не вмешиваясь в ее деятельность. Согласно своду законов «Русская Правда», в случае убийства об-щина-«вервь» самостоятельно должна была искать преступника или выплачивать виру1. Кроме того, в компетенцию общины входили переделы земли, налоговые вопросы, связанные прежде всего с обложением податями и их распределением, решение судебных споров2.
По поводу реальной роли вечевых учреждений имеются довольно обоснованные тезисы известного дореволюционного ученого А. Преснякова, указывающего, что вечевая власть была во многом формальной, в то время как реальные нити управления сходились именно в руках князя. «Известные нам проявления силы и значения вече носят всецело характер выступлений его в чрезвычайных ситуациях. … Проявления вечевой жизни не выработались нигде, кроме Новгорода и Пскова, в постоянную и систематически организованную правительственную деятельность. … Деятельность веча не могла создать прочной и внутренне объединенной организации волости»3.
В отношении киевского периода отечественной истории, характеризующего стадию раннего государства, считаем возможным предложить следующие заключения.
-
1. При сохранении частичного суверенитета земских (общественных) институтов, ведущая политическая субъектность в Киевской Руси неуклонно переходила к княжеской власти, за исключением отдельных случаев Новгорода, Пскова. Именно князьями принимались основные политические решения – организовывались княжеские съезды, походы, заключались договоры. При этом князья оглядывались не столько на народные массы, сколько на элитные слои, служившие опорой их власти. Ну, а факт регулярного приглашения половецких отрядов для участия во внутренних междоусобицах указывает именно на первичность воли князя, а не народного вече. Если бы земщина держала княжескую власть под жестким контролем, вряд ли половцы, начиная с конца XI в., превратились бы из внешнего фактора во внутренний.
-
2. Политическая составляющая народного сознания киевского периода уже тогда склонялась к принятию жесткой властной вертикали, ориентируясь на фигуру князя, в котором видели прежде всего харизматичного военного вождя. Последнее обстоятельство имело во многом решающее значение, на что могут указывать, например, причины изгнания новгородского князя Всеволода Мстиславича в 1136 г. В случае вакуума власти или дискредитации верховной фигуры коллективное сознание искало авторитетного лидера именно из княжеской среды.
-
3. Изъявления народной воли нередко носили охлократический характер, выражаясь в форме массового эмоционального порыва, который регулировался в определенных рациональных целях. Это приводило к неоднозначным политическим результатам – известные нам случаи именно народных решений далеко не всегда имели конструктивные последствия. Если приглашение на киевский престол Владимира Мономаха (1113 г.) повлекло за собой вполне благоприятный результат, то нельзя сказать то же самое о восстании в Киеве 1068 г. Избранный киевлянами вместо Изяслава Ярославича, потерпевшего поражение от половцев, Всеволод Полоцкий оказался еще более несостоятельным лидером, попросту бросившим доверившихся ему горожан.
Стадия развитого государства, по мысли Л. Гринина, характеризует исторический промежуток со второй половины XVI в., когда были в целом реализованы реформы Ивана IV Грозного, до преобразований Александра I начала XIX в. (Гринин, 2007: 183). Развитое государство представляет собой уже более естественную форму политической организации общества, где налицо определенное приспособление государственных и общественных структур друг к другу. Тем не менее процесс не завершен и соответственно идет дальше, динамика здесь может быть различной со своими особенностями.
Если говорить о существующих среди современных ученых историософских обобщениях по поводу данного временного отрезка, то склонный к либерализму Б. Миронов полагает здесь центральным последовательный вектор от народной монархии к светскому государству, а в перспективе – к правовому (Миронов, 2000: 109). А. Дворниченко видит, скорее, противоположную тенденцию – этот период сыграл решающую роль в укреплении самодержавного крепостнического государственного строя (ГКС), окончательно взяв верх над земской традицией1. С. Нефедов характеризует данные столетия как последовательную капитуляцию государства перед дворянством (Нефедов, 2010 б: 54). Возможно, это была вынужденная мера, поскольку угроза целостности государства (модель моноцентризма) продолжала исходить из боярской аристократии, особенно в XVI–XVII вв. Последняя, инициируя смуту, фактически жертвовала национальными интересами в угоду корпоративным, преобразуя политический порядок ближе к модели полицентризма (Тамбиянц и др., 2021). Нам представляется, что государственная власть Московского царства, а затем Российской империи преследовала прежде всего собственные цели, среди которых превалировало максимальное усиление внутреннего суверенитета, и по ходу этого она стремилась опираться в первую очередь на дворянство, порой фактически натравливая его на боярскую аристократию (опричнина).
Следует напомнить, что ключевым признаком развитого государства выступает централизация, опирающаяся на довольно устойчивый институциональный фундамент. Однако централизация и завершение собирания русских земель вокруг Москвы скорректировало ряд задач, актуальных на протяжении указанного исторического периода, что отразилось на структурах народовластия. Во-первых, это задача наличия достаточных военных ресурсов, необходимых как в целях обеспечения эффективной обороны, так и для геополитической экспансии в связи с меняющейся внешней обстановкой. Во-вторых, внимания требовало содержание разрастающегося административного аппарата, естественного сопровождения усиливающегося государства. Последнее теперь стремилось брать под контроль наиболее важные общественные процессы посредством вновь создаваемых институциональных структур, регулирующих эти процессы и замыкающихся на центре.
Главная трудность решения названных задач заключалась в расположении российских территорий в зоне рискованного земледелия и весьма ограниченных объемах прибавочного продукта. Жесткая властная вертикаль была необходима для собирания и концентрации последнего, а затем эффективного распределения. Закономерно, что указанный период ознаменовался ростом налогообложения. В середине XVI в. новый налог – «кормленый откуп» – позволил увеличить доход в государственную казну в 4,5 раза1, а служилое государство Петра I сумело поднять размеры налогообложений по сравнению с более ранними временами в 8 раз (Нефедов, 2010 б: 113).
Закономерным выражением государственной централизации стала утвердившаяся в XVI столетии система приказов, состоящая из профессиональных служащих, фактически государственных чиновников, в виде которых поначалу выступали дьяки и подьячие. Эмпирические данные исторических источников показывают неуклонный рост приказных штатов (Демидова, 1987: 23). При всем этом актуализировалась сугубо канцелярская работа, что наглядно выразилось в увеличении количества младших приказных чинов (подьячих). В 1690-х гг. их доля в общем объеме приказных людей составила 97 %. Именно они послужили основой для формирования аппарата российского государственного абсолютизма2. Позже, с введением Табели о рангах3, установилась еще более сложная чиновничья иерархия, что соответствовало неизбежной тенденции количественного расширения круга госслужащих. В результате петровских реформ выстроилась служилая вертикаль, а губернская реформа Екатерины II инициировала стремительный рост управленческих штатов на местах. За четверть века – с 1773 по 1796 гг. – количество государственных служащих выросло в два раза (Реформы в России с древнейших времен до конца XX века …, 2016: 252).
Еще одной немаловажной задачей для центра мы полагаем противодействие попыткам дробления высшей власти, растаскивания ее элитными группировками из боярской аристократии. Другими словами, речь идет о модели полицентризма, которая в указанный исторический отрезок неоднократно угрожала российской государственной целостности. Это вторая четверть XVI столетия, названная периодом «боярского правления», начало XVII в. – так называемая «семибоярщина», едва не приведшая к потере страной политической независимости. Весьма неустойчивая ситуация сложилась в государстве и в последние десятилетия этого же столетия, правда, тогда несколько центров власти (Софья, Петр) образовалось среди непосредственно правящей династии, а не высшего боярства.
Центральная власть активно использовала местные учреждения в ходе обеспечения внутриполитической целостности. Земская реформа (середина XVI в.) предполагала замену дискредитировавших себя кормленщиков выборными от местного населения земскими (излюбленными) старостами. Для пограничной службы и обороны привлекались иррегулярные казачьи подразделения. Наконец, именно земщина пришла на помощь погибающей государственности в ходе Смуты начала XVII столетия. Сформированные земские ополчения оказались решающей военной силой, освободившей Москву от польских войск. Наконец, никак нельзя обойти практику со-зывания земских соборов – отечественных сословно-представительных учреждений, действовавших с 1549 по 1684 гг. Причем более 30 из 57 соборов собирались в 1610–1640-е гг., когда чуть ли не вновь созданная государственность под скипетром Романовых постепенно обретала уверенность, остро нуждаясь в общественной легитимности и поддержке.
В то же время власть не столько стремилась к союзу с земщиной, сколько пыталась взять ее под контроль. Правда, эти попытки предполагали различный круг задач в зависимости от времени. Так, в XVI–XVII вв. государственные высшие лица больше лавировали, поскольку еще не располагали достаточными ресурсами и силой. Например, в спорах между воеводами – назначенцами государственного центра и мирскими организациями – решения не так уж редко выносились в пользу последних. Тем не менее это были исключительно тактические успехи, в целом же общий тренд характеризовался неуклонным наступлением государственного аппарата на права и льготы организаций, не входящих в его структуры. Этому способствовала бюрократизация институтов местной власти, увеличение присланных из центра «приказных людей», судей и т.д. А стремление ставленников центра к единовластию емко характеризовалось населением выражением «воеводы государятся» (Александров, Покровский, 1991: 117, 128).
Упомянутый тренд стал заметно проявляться уже по мере укрепления центральной власти и ее эволюции к самодержавному типу правления, все более вытесняя сословно-представительский принцип. Так, в деятельности земских соборов усиливается продворянская составляющая, на что весьма определенно указывает анализ института челобитных – официального канала обратной связи общества с высшей властью1. Челобитные юридически могли подавать представители всех сословий, однако центральная власть в плане удовлетворения действовала весьма избирательно, руководствуясь собственными целями. Речь идет прежде всего о попытках ужесточения административного управления, на нижних уровнях которого предполагалось создать опору из достаточно экономически скромных дворян, в которых видели противовес боярской аристократии. По словам С. Нефедова, наступил период дворянского «петиционного движения» (Нефедов, 2010 б: 32). Именно на Земском соборе 1649 г. юридически полностью закрепощаются крестьяне, а посвященная крестьянскому вопросу глава XI Уложения2 иногда даже текстуально совпадает с дворянскими челобитными (Нефедов, 2010 б: 54). Во второй половине XVII столетия земские соборы становятся редкостью, последний имел место в 1684 г. Этот институт, по сути, сыграл свою роль и уже не требовался утвердившейся в своем внутреннем суверенитете самодержавной власти.
Усиливающееся наступление государственной власти на мирские организации отчетливо просматривается на примере казачества. А. Дворниченко склонен рассматривать его в качестве феномена земской традиции3, долгое время сохранявшейся под самодовлеющей сенью разрастающегося государственного аппарата, а мы определяем его как вариант корпоративного народовластия, обладающий заметной долей политической субъектности. Отношение государства к казачеству изначально было двойственным: с одной стороны, оно виделось как не полностью контролируемый институт, который ставил под вопрос военную монополию дворянства – главной опоры государства; с другой стороны, московские цари не могли позволить себе пренебрегать казачеством как военной силой, избирая наиболее прагматичную позицию – казаки направлялись на пограничные окраины, где использовались для ведения внешних войн.
В XVII столетии судьба казачьих сообществ оказалась весьма различной – сохраняли свою корпоративную идентичность и традиции те сообщества, которые располагались ближе к окраинам, где более актуальной была военная угроза (донское, сибирское казачества). А вот волжские казаки сошли с исторической арены уже в начале XVII в., поскольку их территория оказалась поглощена разрастающимся Московским государством (Александров, Покровский, 1991: 77–78). Тем не менее в том же столетии центральная власть стремилась внутренне ослабить казачество, наделяя своих представителей – воевод – соответствующими полномочиями. Однако подорвать самодостаточность организаций казачества удалось только частично – отменить институт казачьего круга не вышло, хотя центр получил некоторый контроль за механизмом кадрового пополнения и назначения атаманов (Александров, Покровский, 1991: 200). Однако в течение всего столетия сохранялся принцип «С Дона выдачи нет», фактически оставляя лазейку для наиболее пассионарных представителей крестьянства.
Ситуация принципиально изменилась в XVIII столетии, когда усилиями Петра I была создана многочисленная регулярная армия, вполне перекрывающая военные функции казаков. С этого момента наступление государства на казачьи вольности становится последовательным и успешным. В начале XVIII в. правительство силой добивалось выдачи беглых с Дона, что вызвало восстание К. Булавина, закончившееся поражением. Наконец, правление Екатерины Великой было отмечено ликвидацией ряда казачьих самоуправлений (Запорожская Сечь), восстаниями яицких (уральских) казаков, последнее из которых – под предводительством Е. Пугачева – разрослось до масштабов мощного народного движения. По мысли А. Дворниченко, это был «последний и решительный бой» казацко-земских сил против самодержавного государства, и после своего поражения казачество окончательно стало опорой престола, а крестьянские и инородческие выступления уже носили сугубо локальный смысл4.
Следует признать разнообразие методов центральной власти в борьбе с проявлениями неконтролируемого народовластия. Так, в противовес той же казацкой вольнице формировались объединения городовых казаков, изначально привязанных к правительству и лояльных ему. Таковым было оренбургское казачество, которое, по сути, оказалось противопоставлено яицкому в ходе пугачевщины. Оренбургские казаки с самого начала находились под жестким правительственным контролем и практически не знали институтов традиционной казачьей вольницы5.
Вместе с тем отнюдь не следует идеализировать демократизм институтов низового народовластия, что присуще ряду историков (например, А. Дворниченко1 и др.). В сознании народных масс проявляла себя авторитарная традиция и в отношении процессов, касающихся внутренних общинных связей. По словам Н. Алексеева, это была «прямая демократия, но демократия первобытная. “Гетманская” власть в ней деспотична, неограниченна, так же как деспотична и власть вече или рады. “Произвол массы” и “бесправие личности” – вот что характеризует эту демократию в отличие от демократий западных» (Алексеев, 1998: 100, 101). Так, принимая важное решение на сходе, мирские организации жесткими мерами обеспечивали его реализацию силами всех своих представителей. «Телесное наказание “мирского ослушника” перед “всем миром” – вещь самая заурядная в истории земского самоуправления, один из традиционных методов создания “монолитного” единства общинной организации» (Александров, Покровский, 1991: 176–177, 178).
Что касается формы народовластия в виде народных движений, то в указанный период обозначились следующие вариации: спонтанный (стихийный) бунт (Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г., отчасти выступление стрельцов 1682 г.), казаческие движения, возглавлявшиеся харизматичными лидерами С. Разиным, К. Булавиным, Е. Пугачевым, зачастую получавшие массовую поддержку низов; городские движения в Пскове и Новгороде, Томске, Астрахани. В стихийных бунтах доминировала охлократическая основа, их движущей силой выступала разъяренная толпа. Бунты зарождались в основном спонтанно на почве гнева и возмущения, а после снижения эмоционального накала начинался обратный процесс. Участвующие в подобных движениях народные массы не располагали какой-либо продуманной программой, будучи настроенными на реализацию ближайших интересов – здесь и сейчас. Казацкие движения изначально имели куда более рационально организованный характер, были намного более продолжительными во времени, привлекая многих недовольных внутренней политикой, и тем самым представляли более значительную угрозу для центра. И все же казачьи общества не могли предложить весомой альтернативы именно государственной форме, поскольку при всех потугах их собственная политическая форма не преодолевала рамок вождизма, пусть и весьма развитого. Ее центральной фигурой выступал харизматичный лидер, вокруг которого строилось политическое пространство. К. Петкевич справедливо указывает, что казачество не обладало самосознанием и сплоченностью для строительства и защиты института государства (Петкевич, 2006: 299). Движения посадских людей приводили к временному свержению ставленников государства и утверждению структур, выбранных «снизу». По мысли А. Дворниченко, здесь реанимировались древние формы народовластия, присущие посадскому «миру» – городской общине. Эти движения могли изначально носить охлократический смысл, который затем вводился в рамки или растворялся в более продуманных решениях ставленников народа – земских старост2. Характерно, что действия правительства в отношении восстаний в Пскове и Новгороде 1650 г. и в отношении Астраханского восстания 1705–1706 гг. различались принципиально. Если в первом случае государство все же пошло на частичный компромисс, хотя и с позиции силы, то во втором власть решительно и жестоко подавила восстание, учинив кровавую расправу (Голикова, 1975: 306–307).
Что касается идеологических аспектов народных движений XVI–XVIII вв., то их лидеры и рядовые участники могли принципиально расходиться в методах воздействия на власть радикализмом или масштабами протеста, тем не менее никто из них не ставил под сомнение незыблемость государственных основ. Наивный монархизм выступал составной частью отечественной ментальности, придавая сакральный смысл царской власти. Несправедливости высшей власти связывались не с фигурой царя, а с его окружением – боярами и т.д.3 В какой бы степени конфликта не находился восставший народ с властью, личность царя для него оставалась священной. Но если идеология упомянутых народовластных феноменов носила монархический смысл, то вряд ли следует видеть в них антисистемность.
Подытоживая рассмотрение стадии развитого государства отечественного политогенеза, отметим следующее. В этот период была завершена государственная централизация, что скорректировало задачи высшей власти. С одной стороны, остро актуализировалась необходимость оптимизации прибавочного продукта, что было обусловлено, во-первых, военными целями; во-вторых, содержанием постоянно увеличивающегося административно управленческого аппарата. С другой стороны, государственные задачи требовали поддержания вертикали центральной власти, ограничивая корпоративные интересы элитных группировок. Степень реализации последних могла привести к распаду политического порядка со всеми вытекающими последствиями вплоть до потери независимости (Смута XVII в.). В русле реализации подобных задач центральная власть, помимо опоры на формирующийся и разрастающийся бюрократический слой, могла надеяться на земские институты: в функционале пограничной службы активно использовалось казачество, кроме того, роль земщины оказалась фактически решающей в преодолении Смуты и ее последствий (земские выборные, ополчения, земские соборы). В то же время государственная власть по ходу усиления собственного суверенитета проявляла все более жесткий настрой в отношении земских институтов народовластия. Если в XVII в. центр больше лавировал в рамках взаимоотношений с земщиной, нередко идя последней на уступки, то в XVIII в. он уже стремился подавлять и подчинять спонтанно долгосрочно образовавшиеся институты народовластия (Запорожская Сечь). Одним из способов последнего выступало инициирование государственной властью своего рода искусственных структур народовластия (городовое казачество, дворянское самоуправление), которые служили противовесом возможному сопротивлению государственной политике со стороны естественных образований (уральское казачество, городские низы, крестьянство).
Проблематика собственно народовластных сущностей в указанный период видится в следующем. Многие структуры носили традиционный смысл или образовывались вследствие некоторой политической слабости центра, его недостаточных возможностей взять под надежный контроль значимые для него процессы (казачество, несшее пограничную службу; община как механизм сбора прибавочного продукта). Вместе с тем ряд народовластных феноменов оказался реакцией либо на полный вакуум или паралич центральной власти (ополчения периода Смуты), либо, наоборот, на возрастающее давление последней. В данном случае народное волеизъявление могло происходить спонтанно, зачастую приобретая охлократический смысл (городские массовые бунты); а также получать более организованные формы социально-политических движений, ядром которого обычно выступало казачество или городские слои, выдвигающие собственных ставленников – земских старост. Следует заметить, что упомянутые феномены не носили антисистемных черт, поскольку идеологически придерживались монархических установок, не ставя под сомнение основы самодержавного строя, внутренне такие образования были весьма авторитарны, концентрируясь возле сильного жесткого лидера, предполагая «произвол массы» и «бесправие личности». Наконец, даже организованные народные движения не отличались высокой степенью единства, зачастую разваливаясь под воздействием внутренних противоречий, а также под ударами более сплоченных групп правящего класса. Ввиду этого устойчивой тенденцией отечественного политогенеза на стадии развитого государства можно считать последовательное взятие под контроль проявлений народовластия государственной властью по ходу укрепления ею внутреннего суверенитета.
Список литературы Историософские аспекты отечественного народовластия: раннее и развитое государство: статья 2
- Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. 401 с.
- Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. 640 с.
- Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705–1706 гг. М., 1975. 332 с.
- Горский А.А. Русское средневековье. М., 2010. 224 с.
- Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. М., 2007. 368 с.
- Гринин Л.Е. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории // История и современность. 2006. № 1. С. 3–44.
- Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. 225 с.
- Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005. 384 с.
- Зиновьев А. Коммунизм как реальность. М., 1994. 496 с.
- Иваненко И.Н., Шалин В.В., Тамбиянц Ю.Г. Историософские аспекты отечественного народовластия: статья 1 // Общество: философия, история, культура. 2023. № 12 (116). С. 37–47. https://doi.org/10.24158/fik.2023.12.4.
- Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: от начала до наших дней. М., 2008. 1200 с.
- Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): в 2 т. СПб, 2000. Т. 2. 568 с.
- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ: в 2 т. М., 2010 а. Т. 1. С древнейших времен до Великой смуты. 376 с.
- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ: в 2 т. М., 2010 б. Т. 2. От окончания Смуты до Февральской революции. 688 с.
- Петкевич К. Казацкое государство // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 280–304.
- Полосин В.С. Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии. М., 1999. 440 с.
- Реформы в России с древнейших времен до конца XX века: в 4 т. / ответ. ред. И.Н. Данилевский. М., 2016. Т. 2. 429 с.
- Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. М., 1983. 240 с.
- Тамбиянц Ю.Г., Гринь М.В., Иваненко И.Н. Модель отечественного политического процесса: фактор внутриэлитных противоречий (статья 2) // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 11. С. 2372–2378. https://doi.org/10.30853/mns210402.
- Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 269 с.