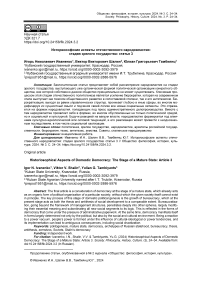Историософские аспекты отечественного народовластия: стадия зрелого государства: статья 3
Автор: Иваненко И.Н., Шалин В.В., Тамбиянц Ю.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Заключительная статья представляет собой рассмотрение народовластия на стадии зрелого государства, выступающего уже органической формой политической организации конкретного общества, вне которой собственно данное общество принципиально не может существовать. Ключевым процессом этой стадии отечественного политогенеза является усиление бюрократии, которая на современном этапе выступает как тезисом общественного развития в сопоставимой степени, так и его антитезисом. Бюрократизация, выходя за рамки управленческих структур, проникает глубоко в иные сферы, во многом модифицируя их сущностный смысл и подчиняя своей логике все новые социальные сегменты. Это отражается на формах народовластия, попадающих под пресс административного делопроизводства. Вместе с тем народовластие проявляет себя в формах, во многом обусловленных не только политической средой, но и социальной и культурной. Будучи реакцией на вакуум власти, народовластие формируется под влиянием культурно-идеологической или силовой тенденций, и его реализация может привести к неоднозначным последствиям, в том числе социальной хаотизации.
Политогенез, зрелое государство, народовластие, архетипы российской государственности, бюрократия, тезис, антитезис, земства, советы, сталинское народоправство
Короткий адрес: https://sciup.org/149145351
IDR: 149145351 | УДК: 321.7 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.2
Текст научной статьи Историософские аспекты отечественного народовластия: стадия зрелого государства: статья 3
,
В предыдущих двух статьях мы попытались концептуализировать феномен народовластия в большей степени с историософских позиций. Методологически мы связываем народовластие с политогенезом, видя в первом некую важную составляющую второго. Закономерно, что конкретная стадия политических процессов выступает в качестве определяющего фактора содержательной специфики форм народовластия. Стадии раннего и развитого государства, рассмотренные в предыдущей статье, обозначили очевидный тренд – с развитием государственных структур народовластие становится все более контролируемым со стороны этих структур. Настало время подвергнуть анализу проявления народовластия уже на этапе зрелого государства, еще более отличающемся институциональной сложностью.
В рамках отечественного политогенеза зрелому государству кладут начало реформы Александра I. Данная стадия характеризуется еще более тесной спайкой государства и общества. Предлагающий подобную точку зрения Л.Е. Гринин интерпретирует зрелое государство уже как органическую форму политической организации экономически развитого и культурного общества в виде системы бюрократических и иных специальных институтов, органов и законов, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю политическую жизнь (2007: 253). В плане ключевых отличительных характеристик зрелого государства отмечаются: во-первых, более рационально выстроенная и систематизированная система управления, что принципиально повышает роль бюрократии, профессиональных управленцев, распространение которых становится повсеместным; во-вторых, гораздо более основательный правовой фундамент и более высокий уровень образованности госслужащих и иных групп; в-третьих, общественная сплоченность, формируемая как единой Конституцией, так и с помощью национального сознания, что обеспечивает единое культурно-информационное пространство во главе с государственной идеологией (Гринин, 2007: 277).
При некоторой условности предложенной модели нет смысла отвергать ключевой тезис ее автора по поводу того, что на стадии зрелого государства социальная жизнь не мыслится вне государства, это уже политическая форма, вне которой общество (и население) существовать не может в принципе (Гринин, 2006: 26). Такой подход значительно проясняет исторические перипетии российского политического процесса с его привязкой к жесткой центральной властной вертикали, разрушение (1917 г.) или даже смягчение (1990-е гг.) которой приводит к политическому и социальному хаосу.
Развивая положения Л.Е. Гринина, мы считаем целесообразным указать, что в рамках российского опыта стадии зрелого государства заметно усилился фактор внешнего влияния , который названным ученым упоминается лишь вскользь, что, впрочем, не повод для критики в силу универсальности предлагаемой им концепции. Параллельно с этим произошло некоторое ослабление природного фактора прежде всего в силу процессов индустриализации и расширяющегося урбанизированного сегмента. Внешние источники воздействия на отечественные политические процессы имели по меньшей мере две стороны воздействия. С одной стороны, речь идет о складывающейся мировой системе, в которой России навязывался статус периферийной империи. С другой стороны, во многом в силу транснациональных модернизационных трендов интенсифицировалось комплексное диффузное воздействие, прежде всего со стороны западного мира. С.А. Нефедов придает этому одно из решающих значений в соответствии со своей трехфакторной моделью исторического процесса (2010: 30–32).
Мировая система, по выкладкам школы мир-системного анализа (И. Валлерстайн, Дж. Арриги и др.), заявила о себе уже в XVII в. Индустриализирующиеся страны Запада (прежде всего Европы) нуждались в наполнении собственных потребительских рынков сельскохозяйственной продукцией, что сначала взяла на себя Речь Посполитая, а позже – Российская империя. Для экспортирования продовольствия и дешевого сырья в условиях рискованного земледелия модель самодержавно-крепостнического строя оказалась наиболее подходящей (Кагарлицкий, 2004). Логика периферийного капитализма предполагает необходимость жесткой вертикали власти, способной подавить возможные протестные акции. Это был дополнительный фактор усиления жесткости политического строя Российской империи.
Последняя, как мы полагаем, имела к тому времени самодовлеющий смысл, что вполне соответствует внутреннему содержанию зрелого государства, структуры которого уже органически срастаются с общественными институтами. Это обстоятельство мы считаем одним из главных моментов, позволяющих понять проблематику отечественного народовластия в XIX–XX вв. Как можно судить по историческим фактам, логика российского политогенеза на указанной стадии ознаменовалась существованием своего рода административной тотальности, которая стремилась проникнуть в сферы общественной жизни, даже отдаленные, в целях регуляции и контроля. По этому поводу имеется солидный научный дискурс, и еще более обширный – публицистический, демонстрирующий различные, а порой прямо противоположные, оценки упомянутого отечественного феномена.
Если остановиться на имеющихся попытках научного объяснения, то либеральная позиция (Б.Н. Миронов) сводится к утверждению постепенной эволюции монархии к правовому государству, что было прервано фактически случайным фактором – большевистской революцией, вновь установившей жесточайший политический режим, поправ все либерально-демократические начинания (Миронов, 2000: 175–182). В связи с этим напрашивается вопрос: как тогда объяснить, что постперестроечная Россия после периода либерального конституционализма 1990-х гг. и появления криминала как неформального субъекта власти вновь перешла на укрепление центральной властной вертикали и введение авторитарных методов правления?
Более адекватным представляется подход А.Ю. Дворниченко, осмысляющего российскую политическую историю через понятие государственно-крепостнического самодержавного строя (ГКС). Формируясь в ходе конкуренции с соперничавшей с ним земской традицией, ГКС со временем добился ее предельного подавления. Результатом стала минимизация общественных инициатив при сверхсубъектности государства – все развивалось по нисходящей вертикали: экономика, политика, культура. Даже серьезные преобразования с элементом радикализма инициировались сверху, в чем А.Ю. Дворниченко склонен видеть попытки самодержавного государственно-крепостнического строя приспособиться к изменяющейся ситуации. Советский строй этот ученый считает новым изданием того же ГКС (Дворниченко, 2010: 929–939). Между тем такой подход не совсем объясняет тот факт, что первоначально большевистский проект был настроен на последовательную ликвидацию государственности, подчеркивая временность диктатуры пролетариата. Но, как известно, Советское государство со временем приобрело еще большую тотальность (сталинский СССР). Вряд ли психологический подход, который предлагает для этого В. Райх (1997), содержит исчерпывающее объяснение. Представляется, что широта и глубина данной проблемы заставляют остановиться на историософском рассмотрении.
Методологически ценным является для нас подход российского философа В.Н. Шевченко, который считает необходимым отталкиваться от адекватного понимания бытийственного фундамента отечественной власти. «Онтологические основы российской государственности, архетипы остаются на протяжении всей истории в главном неизменными», с ними нет смысла, да и бесполезно бороться. Властно-управленческая структура есть системообразующая социальная связь в российском обществе последние пять веков. Власть имела единоличный смысл, именно таков ее российский инвариант независимо от смены государственной идеологии (Шевченко, 2008: 121, 115). Тем самым жесткая государственная власть выступает в качестве ключевого жизнеобеспечивающего фактора отечественного социума. Ретроспективный взгляд на историю заставляет предположить, что ослабление государственного начала ставило под вопрос бытие России. Это отчетливо продемонстрировало XX столетие, когда разрушавшаяся государственность восстанавливалась фактически в той же самой модели, пусть и несколько модифицированной. Такого рода политическая организация российского общества оказалась наиболее адекватной в процессе решения задач, требующих максимальной мобилизации социальных ресурсов, что проиллюстрировали правление Петра I, а также сталинская эпоха. Как признает А.Ю. Дворниченко, государственный крепостнический строй, концентрируя огромные средства, мог в случае необходимости бросать их в нужном направлении, быстро военизировать общество, отбивая нападения со всех сторон, и т. п. (2010: 451). Представляется, именно это обстоятельство оказалось решающим для быстрой и успешной индустриализации, а также для победы в тотальной войне.
Тем не менее разрастание и усиление российского государственного начала имело оборотной стороной не только количественный прирост бюрократии, но и превращение ее в реальный политический субъект. Проблема отечественной бюрократии имеет как объективный, так и субъективный аспекты. В плане первого следует подчеркнуть, что бюрократизация в целом есть отражение и результат процессов централизации. Как полагают политические историки Д.А. Андреев и Г.А. Бордюгов, в Российской империи происходит бюрократическое обволакивание власти Первого лица. Собственно, верховная власть «обретала теперь зримые ведомственные очертания», превращаясь «в структурное подразделение административного аппарата, в котором реально заправляло уже непосредственно само чиновничество»; сам государь «превращался в главного чиновника, пределы компетенции которого отныне (пускай и теоретически) напрямую зависели от расклада сил внутри бюрократической корпорации» (Андреев, Бордюгов, 2004: 73, 64).
Уже при Александре I созданием министерств был сделан значительный шаг в сторону дальнейшей бюрократизации государственного управления, расширении канцелярской составляющей и делопроизводства. В правление Николая I принимались меры по централизации и усилению полицейских институтов, а также петенциарных учреждений, помимо создания дополнительного надзирающего и контролирующего органа (Собственной Его Величества канцелярии в 1826 г.). Закономерным результатом подобных преобразований стало количественное увеличение государственных служащих в XIX столетии. По данным П.А. Зайончковского, «число чиновников на протяжении XIX в. с учетом роста населения увеличилось почти в 7 раз» (1978: 221).
Бюрократический аппарат на стадии зрелого государства отечественного политогенеза стал играть роль станового хребта российской государственности, его развал автоматически означал конец этой государственности. По меткому выражению В.И. Спиридоновой, отечественная бюрократия есть «специфическая матрица российской власти» (2008: 39). Ведущие представители разрастающихся бюрократических структур осознают собственный групповой интерес, закрепляют за собой в высшем властном пространстве определенные зоны, получая все большее общественное признание. Нарастала проблема недопущения выхода административного аппарата за собственные функциональные рамки, ограничения его усилий исключительно на реализации решений, принятых политическими элитами. В.Н. Шевченко констатирует, что для внутриполитической жизни России характерен разрыв между единовластием и методами транслирования вниз властного решения (2008: 128–129). Со временем бюрократия все менее заинтересована в преобразованиях, поскольку они ставят под вопрос ее позиции и привилегии, она занимает на консервативные позиции. При этом непосредственный интерес и заключался в периферийно-сти России, фрагментарности модернизационных процессов, так как выборочная европеизация страны приносила чиновникам, особенно высших страт, огромные выгоды. В этом, по мысли В.Н. Шевченко, состоит серьезное общественное противоречие: «Становой хребет государственности, коим является чиновничество, бюрократия, оказывается той силой, которая блокирует импульсы к развитию, идущие как сверху, так и снизу… Но и разрушить этот хребет нельзя, ибо с его разрушением падет и само государство» (2008: 130–131). Отсюда единственно возможный выход – полное разрушение недееспособного государства и строительство новой политической системы. Но и советская государственность во многом воспроизвела аналогичную политикоуправленческую матрицу, а становым хребтом политической системы СССР стала партийная номенклатура со своей функциональностью и дисфункциональностью.
Есть смысл упомянуть качественную составляющую российской бюрократии, о которой нелицеприятно отзываются русские классики (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). Отнюдь не в более благоприятном свете российское чиновничество предстает в научных исследованиях (В.О. Ключевский, Н.М. Дружинин, С.А. Нефедов). Император Николай I отчаянно пытался поправить положение посредством многочисленных ревизий, оказывая давление на губернаторов, а также ставя на ведущие государственные должности этнических немцев, ментально менее подверженных коррупции (Ключевский, 1937: 336–337). Однако все это не давало достаточного эффекта – уровень коррупции оставался очень высоким. Если частновладельческие крестьяне страдали от помещичьего гнета, то государственную деревню грабили чиновники (Нефедов, 2011: 260).
В свое время уже В.И. Ленин успел прочувствовать грозящую опасность социализму со стороны бюрократии, инициируя партийные чистки. Наконец, по мысли некоторых исследователей (С.Г. Кара-Мурзы), репрессии И.В. Сталина были в том числе направлены против формирующихся партийно-номенклатурных кланов. После И.В. Сталина консерватизм советской номенклатурной бюрократии оказался одним из ключевых факторов неспособности СССР находить адекватные ответы на вызовы времени. Так, нацеленная на оживление экономики косыгинская реформа оказалась фактически нереализованной во многом из-за саботирования ее со стороны партийных управленческих групп. Трагично сложилась судьба отдельных талантливых энтузиастов-экспериментаторов, призванных оптимизировать управление через сокращение бюрократических штатов (И.Н. Худенко).
Тем самым на стадии развитого государства опасность дробления власти (полицентризма) исходила в основном из аристократических групп – высшего боярства, а затем сословия дворянства. При этом в условиях зрелого государства подобная угроза исходила уже от административных кругов, занимающих ключевые позиции государственного управления. Причем теперь полицентричная модель принимала вид не столько конкуренции аристократических кланов, сколько соперничества целых управленческих структур.
Между тем XIX век в России характеризуется усилением модернизационного процесса, что само по себе вело к усложнению общества, появлению новых групп, претендующих на экономическую (предприниматели), а то и политическую (интеллигенция) субъектность. В контексте подобных процессов государство лавировало, стремясь решить назревшие общественные проблемы в соот-вествии с вызовами эпохи и не растерять собственную социальную опору, порой стараясь расколоть наметившуюся консолидацию оппозиционных сил (как в ходе первой русской революции 1905 г.). В связи с этим периоды некоторой либерализации внутренней политики сменялись консервативной реакцией и ослаблением либеральных нововведений («движение зигзагами» (Журавлев, 2016)). Имеет смыл предложить следующую картину взаимодействия имперской власти с инициативами, исходящими от общества. Сразу следует отметить общий тренд экспансии государственной субъектности, расширяющей и доказывающей собственный внутренний суверенитет.
Во-первых, интеграция народовластных институтов в структуры зрелого государства, что фактически оскопляло субъектность первых. Это касается ряда образований корпоративного народовластия. Например, если казачество на стадии развитого государства выступало во многом самостоятельной силой, потенциально сопротивлялось государственной централизации, а в ряде случаев даже пребывало на передовых рубежах общественного протеста (движение С. Разина, Е. Пугачева), то в условиях зрелого государства казачество являлось уже одной из силовых опор режима самодержавия, выполняя не только военные функции, но и полицейские1. Похожая тенденция наблюдалась в отношении земств, которые лишь формально выводились за рамки государственной системы управления, а на деле быстро оказывались ее низовыми структурами.
Во-вторых, гибкая политика в отношении многочисленных в последнее столетие существования Российской империи народных движений. Крестьянские выступления, особенно участившиеся после реформы 1861 г., обычно подавлялись силой, причем в большинстве случаев для этого использовались войска (Нефедов, 2011: 315–316). Городские социальные движения могли не только подавляться. Например, небезызвестные погромы еврейского населения, по мнению некоторых исследователей, власть могла рассматривать как разрядку массовых негативных эмоций, связанных главным образом с социальной проблематикой, т. е. как своего рода выгодную власти политическую сублимацию (Оболонский, 1994). В связи с этим полицейские силы подавляли подобные движения не сразу в зародыше, но после прохождения ими пика. Под аналогичные регулятивные меры могли попасть и иные массовые акции, причем не обязательно со стороны правительства. Например, силовой разгон демонстрации 9 января 1905 г. с человеческими жертвами, известный как Кровавое воскресенье, С.А. Нефедов склонен рассматривать в качестве подготовленной либеральной оппозицией провокации с целью ускорить свержение самодержавия, своего рода инициирование «революции извне» (2011: 458).
В-третьих, искусственное создание властью организаций народовластия в качестве превентивной меры в отношении возможных выступлений. С такой целью создавались зубатовские организации рабочих, своего рода контролируемые полицией профессиональные союзы, которые должны были отвлечь рабочих от политической революционной борьбы и направить исключительно на защиту их экономических интересов. Для идеологического обоснования инициатор подобных организаций С.В. Зубатов обращался к известному отечественному мыслителю консервативно-традиционного направления Л.А. Тихомирову. При этом конспиративная организация «Святая дружина» создавалась для борьбы с терроризмом и действовала под контролем МВД и департамента полиции.
В-четвертых, легализация и институционализация отдельных проявлений общественных, в том числе низовых, инициатив, что выражается в земской реформе (1864 г.), реформе городского самоуправления (1870 г.), а также создании Государственной думы (1905 г.). При этом легализованные таким образом амбиции и стремления общества заключались в жесткие рамки, их полномочия чем дальше, тем строже регламентировались, а реальные политические возможности фактически оскоплялись.
Архетипы российской государственности определяли характер и советского этапа полито-генеза. Так, ряд сходств с судьбой дореволюционных земств наблюдается в динамике института Советов. Эти учреждения А.Ю. Дворниченко считает отражением земской традиции, которая была придавлена самодержавным государственно-крепостническим строем, но пробудилась в смуту начала XX в. (2010: 774). В некотором роде Советы можно считать модернизированной формой крестьянских сходов, и они поначалу выступали опорой большевистской власти2. Однако скоро жестко встал вопрос об усилении вертикального единоначалия, что естественным образом начало работать на политическое оскопление института Советов. Как пишет Д.А. Тихонов, к 1953 г. местные Советы были «в большей степени церемониальными, нежели рабочими органами» (2004). Попытки оживить их деятельность, наделив некоторыми реальными полномочиями, в период хрущевской оттепели оказались малорезультативными. Дело в том, что «если бы Советы действительно получили предполагавшиеся функции, это автоматически ослабило бы позиции партийных органов, чего номенклатура допустить не могла» (Тихонов, 2004: 89–90).
Целесообразно коснуться народовластных проявлений, отразившихся в событиях начала XX в., а затем – уже в советскую эпоху. Петербургский историк А.Ю. Дворниченко предпочитает обозначать внутриполитическую ситуацию существования последних 15 лет Российской империи термином «смута», видя здесь много общего с обстановкой начала XVII в. По его словам, фраг- ментированное российское общество неслось в никуда. Недовольны были все слои, которые высказывали это недовольство в разной форме. «В ходе Смуты, как в те далекие времена, пробудились дремавшие силы земщины, возродилась земская традиция нашей истории» <выделено А.Ю. Дворниченко> (2010: 774). Земские традиции проявляли себя в годы Гражданской войны. Только «новое сталинское издание государственно-крепостнического строя с его коллективизацией, индустриализацией и культурной революцией окончательно покончило с земскими традициями» (Дворниченко, 2010: 938-939). Видимо, склонность к интерпретации народовластия в гетерархическом демократическом духе и недооценка авторитарных форм предопределяют позицию А.Ю. Дворниченко, в рамках которой сталинскому периоду решительно отказано в какой-либо народовластной обусловленности.
Иная картина предлагается С.Г. Кара-Мурзой, рассуждающим с левопочвеннических позиций, а также известным социальным логиком А.А. Зиновьевым. Констатируя культурно-цивилизационную самобытность отечественного социума, первый видит в сталинизме именно отражение особого российского народовластия, которое трудно понять тем, кто исходит из распространенных западных категорий демократии, правового государства и т. п.: «В социальной и идеологической сфере тоталитаризм выразился в достижении так называемого морально-политического единства советского народа и культе личности И.В. Сталина. В правовой - в широком применении чрезвычайных мер, массовых репрессиях, которые сопровождались крайней жестокостью» (Кара-Мурза, 2008: 389). С.Г. Кара-Мурза отстаивает идею несостоятельности противопоставления власти и народа в сталинском обществе. Напротив, власть сталинского государства являет собой целостную организацию всего народа. Данная тотальность предопределила все грандиозные успехи СССР типа форсированной индустриализации и победы в Великой Отечественной войне; а также провалы, связанные с коллективизацией и массовыми репрессиями.
Истоки проблем, возникших при проведении коллективизации, С.Г. Кара-Мурза видит в несоответствии социально-инженерного проекта социокультурным характеристикам человека (2008: 395). Несколько перефразируя, здесь можно предположить столкновение бюрократической логики с логикой российской сельской повседневности и здравого смысла. С одной стороны, коллективизация опиралась на общинные традиции, с другой - в ходе нее навязывались формы, которые мало подходили для отечественных условий (обобществление домашнего скота, отсутствие приусадебных участков). В то же время перегибы (порой критикуемые И.В. Сталиным) С.Г. Кара-Мурза объясняет не только, а скорее не столько карьеризмом отдельных партийных чиновников. Со ссылкой на документы, а также многочисленные личные свидетельства им отмечается наличие массовой страстной воли выполнить признанную необходимой задачу, не считаясь ни с какими жертвами. Это явление и выступало движущей силой тоталитаризма (Кара-Мурза, 2008: 392).
Этим же, главным образом социально-психологическим, феноменом С.Г. Кара-Мурза склонен объяснять масштабы репрессий, в которых есть смысл видеть как целенаправленную объективную, так и иррациональную субъективную составляющие. В плане первой это ликвидация возможной пятой колонны в преддверии большой войны, ротация кадров (на смену поколению М.Н. Тухачевского пришло поколение Г.К. Жукова). В плане второй речь ведется об отражающихся в массовом сознании рецидивах Гражданской войны, которая в разных формах продолжалась в России более трех десятилетий (Кара-Мурза, 2008: 423). Если на целенаправленную сторону политики влияют в полной и достаточной мере, то на иррациональную - только частично. Однажды начавшееся кровавое внутреннее противостояние останавливается трудно - этот процесс должен пройти нечто вроде кульминации: на каждом его шагу появляются мотивы для следующего, расширенного этапа. В России, считает С.Г. Кара-Мурза, этому процессу положило начало Кровавое воскресенье (2008: 417), после чего стал раскручиваться маховик первой русской революции со столыпинскими военно-полевыми судами, поджогами поместий крестьянами и пр. По его мысли, репрессии 1937-1938 гг. есть по большей части порождение не государственного тоталитаризма, а именно глубокой демократии, но вовсе не в западном понимании. Это же утверждает А.А. Зиновьев, когда приводит тезис о том, что массовые репрессии в Советском Союзе служили проявлением именно доведенного до предела народовластия (1994: 187-188). С.Г. Кара-Мурза приводит факты, когда низовой энтузиазм борьбы с вредителями и врагами народа сдерживался центральными органами, а с начала 1938 г. репрессии стали тормозить более системно «охлаждающими» постановлениями, вплоть до расстрелов (2008: 424).
Хотя предложенное видение дискуссионно, тем не менее его можно принять в качестве гипотезы, поскольку оно не лишено внутренней логики, вполне согласуется с фундаментальными исследованиями политических аспектов отечественной ментальности, наконец, может быть основательно подкреплено фактически. Если соотнести с формами народовластия, предлагаемыми В.С. Полосиным, то сталинизм ближе всего оказывается к варианту народоправства, при котором высшие политические функции делегированы и распределены между профессионалами, тогда как верховный контроль сосредоточен у конкретного лица, наделенного народным доверием и харизмой. Народоправство – идеальная форма государственного строя, который реально встречается довольно редко, обычно в революционных или военных ситуациях или в переходные периоды. Элементы народоправства могут проявляться в самых различных политических структурах, будучи призванными в силу особых обстоятельств (Полосин, 1999: 256). Но, как четко показал и советский опыт, народоправство неизбежно трансформируется в политический элитизм. Согласно А.А. Зиновьеву, современное общество со сложными культурой и хозяйством враждебно народовластию, исключая или хотя бы ограничивая его до минимума (рамками коммун и мелких дел их членов) (1994: 188).
Много размышляющие над сущностью политической организации в СССР С.Г. Кара-Мурза и А.А. Зиновьев констатируют внутреннюю противоречивость советской структуры власти. Большевистское государство предполагало мощную бюрократическую основу и нуждалось в ней, но тем самым никуда не исчезали предпосылки дробления власти через формирование неформальных клановых структур внутри создаваемой партийной бюрократии. Тем самым в советскую эпоху было воспроизведено то же самое противоречие, пронизывающее политическую систему имперской России.
Д.А. Андреев и Г.А. Бордюгов, характеризуя советский период в логике противопоставления мобилизации и модернизации, отмечают, что благодаря назревшей мобилизации И.В. Сталин сумел на какое-то время подчинить себе партийную элиту во многом через манипуляцию процессами внутри нее самой (2004). Введенная номенклатура должностей (основа советской кадровой политики) запустила процесс расслоения советской управленческой сферы. Между собой сталкивались различные слои бюрократической иерархии, а регулярные кадровые перестановки предотвращали обволакивание (Андреев, Бордюгов, 2004: 115–116).
Однако после впечатляющего мобилизационного рывка, ознаменованного быстрой индустриализацией и победой в тотальной войне, общественный порыв стал остывать, чем воспользовалась элита, поддерживая в дальнейшем благоприятный для себя режим стагнации, приведший в конечном счете советскую государственность к концу. Носитель власти хотя и сохранял все формальные атрибуты верховного суверенитета, попадал в жесткую зависимость от партийной номенклатуры – главного политического субъекта. Апогеем номенклатурного господства стал режим Л.И. Брежнева: «Носитель власти не только не сопротивлялся собственному обволакиванию со стороны элиты, но, напротив, всячески ему способствовал, выступая гарантом незыблемости принципа “партийного руководства”» (Андреев, Бордюгов, 2004: 134). Позднесоветская элита представляла собой конгломерат группировок, конкурирующих между собой. Однако раздираемая внутренними противоречиями, она нуждалась в верховном арбитре и, соответственно, была заинтересована в поддержании некоей знаковой дистанции между собой и первым лицом (генеральным секретарем, президентом). В то же время цель элиты заключалась в отыскании максимально возможных в рамках существующей политической системы способов преодоления сохраняющегося отчуждения от собственности (Андреев, Бордюгов, 2004: 134, 136–137).
Эта задача была успешно решена в ходе рыночных реформ, в силу чего была сформирована уже постсоветская элита, теперь уже прочно соединившая власть с собственностью. Именно это констатирует российский ученый и левый политик О.Н. Смолин, опровергая известное изречение Е.Т. Гайдара об обмене власти на собственность. О.Н. Смолин для описания постсоветского периода применяет концепт бюрократической революции, в ходе которой представители прежнего управленческого аппарата «открыто и успешно присоединили собственность к власти»1. Вместе с тем качественный состав управленческой элиты заметно снизился по сравнению с таковой советского периода, что отмечают исследователи любой идеологической ориентации. Либерал А.В. Оболонский, отвергая тезис о произошедшей в СССР демократической революции, пишет о социальной страте номенклатурных «мутантов», ценой определенных изменений успешно переживших политические перемены и, более того, укрепивших свое положение (1996). В постсоветской элите снизился уровень профессионализма, минимизировано значение кодекса государственного служения, своего рода административной морали. Вместе с тем институционализация российской бюрократии происходит через контроль над государством (Оболонский, 1996). В течение трех постсоветских десятилетий пороки отечественной бюрократической элиты не только не рассосались, но заметно усилились.
В отношении народовластных феноменов советского и постсоветского периодов, помимо Советов, политическая субъектность которых фактически выхолащивалась, отметим две тенденции, условно характеризуемые нами как культурно-идеологическая и силовая. Первая затрагивала инициативы, связанные со стремлением реализации определенной политической идеи, что массово привлекало сторонников, причем не только из социальных низов. Таковыми можно считать множество этнонациональных движений, охвативших прежде всего Кавказский и Закавказский регионы постсоветской России в 1990-е гг. Кроме того, в подобную модель вписывается стремление жителей Новороссии к отделению от Украины и присоединению к России. Вторая тенденция выступала в основном в форме корпоративного народовластия, сюда могут быть отнесены организованные криминальные группы 1990-х гг.; добровольческие формирования казаков, как принимающие участие в войнах на постсоветском пространстве (грузино-абхазской войне, конфликте в Приднестровье), так и занимающиеся наведением порядка на местах; наконец, боевые подразделения чеченских полевых командиров, обладающие значительной самостоятельностью (Норин, 2021), а также схожие с ними группировки на территории ДНР и ЛНР, которые выставляли «Русский мир как царство победившей братковщины» (Губарев, 2016: 206–207). Нужно сказать, что обе эти тенденции порой активно взаимодействовали и даже переплетались.
Если затронуть формы взаимодействия официальной власти с низовой субъектностью, то мы намерены констатировать ряд вариантов. Прежде всего нужно отметить заметное изменение средового контекста – современные технологии предоставляют объективно более широкие возможности манипулирования массовым сознанием и поведением. По словам М.Г. Делягина, возросшие ресурсы перестройки сознания «резко ограничивают круг проблем, стоящих перед государством, при этом качественно повышая его возможности»1. Отсюда низовая субъектность или волостная традиция (термин А.Ю. Дворниченко) подвергаются модификациям в соответствии с потребностями властных структур.
Во-первых, необходимо отметить объективный фактор усиливающейся бюрократизации, что заметным образом отражается на институтах местного самоуправления – наиболее терпимой и даже необходимой для верховной власти формы народовластия. Принятый в 2003 г. закон № 131-ФЗ расширял полномочия местной власти2, однако они не подкреплялись финансово – местные бюджеты уменьшались. Кроме того, социологические опросы руководителей показывают гигантские масштабы директивных документов, спускаемых сверху, отвечая на которые, большинство местных руководителей тратят половину рабочего времени и больше (Устойчивое развитие…, 2020: 37). Наконец, пробелы в законодательстве дополнительно серьезно сковывают инициативу местных глав, усиливая их зависимость от вышестоящих ветвей власти (Рой, 2016: 167).
Во-вторых, народовластный феномен широко использовался в перестроечное и постперестроечное время и, если судить по результату, сыграл немалую роль в ликвидации советского строя прежде всего в плане расчистки пространства для рыночных отношений, выгодных высшим слоям. Предельно сокращалась социальная составляющая советской экономики, а демократические завоевания, которые широко декларировались инициаторами перестройки и рыночных реформ, носили фрагментарный характер, по большей части приобретая смысл информационно-идеологического симулякра. Впрочем, в условиях периферийного олигархического капитализма, утвердившегося в России, системная демократизация невозможна в принципе (Кагарлицкий, 2006). Тем не менее перестроечные годы действительно характеризовались широким массовым участием населения в выборах. Так, на выборах народных депутатов СССР в марте 1989 г. явка избирателей составила 99,9 % без какого-либо принуждения к голосованию. Порядка 10 % избирателей явились на выборы, чтобы проголосовать «против всех». Однако они это сделали, придя на избирательные участки, а не голосуя «ногами», т. е. не участвуя в выборах, как это принято сейчас (Смирнов, 2011: 14).
В-третьих, в более широких масштабах следует фиксировать случаи инициирования «революции извне», которые имелись уже в имперскую эпоху. Речь идет о фактически искусственно организованных народных движениях, используемых посторонними силами, что называется, «в темную». Естественно, собственно негативные моменты массового сознания выступают здесь в качестве важнейшей предпосылки, без которых такого рода акции могут попросту не состояться. При этом нужно подчеркнуть значительно более активное участие внешних источников – прежде всего институтов западного мира, вписывающихся в логику так называемых сетевых войн, на которые Запад делает ставку как минимум столетие (Оранжевые сети, 2008). Отражением и результатом подобных усилий можно считать ряд «бархатных» и «оранжевых» революций на постсоветском пространстве, а в самой России – события на Болотной площади и пр. Причем такого рода «народные движения» могут инициироваться не только извне, но и изнутри. Например, пресловутые украинские майданы главным образом организовывались одной группой коррумпированных политиков для борьбы с другой такой же группой (Кагарлицкий, 2017: 248).
В-четвертых, стоит отметить экзистенциальное неприятие со стороны государственных структур низовых движений, возникающих естественным путем. Первые всячески стремятся ослабить, политически оскопить вторые, либо поставив под контроль через собственных ставленников, выходцев из высшей российской бюрократии, либо ликвидировав. Именно так российские власти поступили с движением жителей Донецкой и Луганской республик, восставших против прозападной ориентации Киева. Однако ситуация не выглядит однозначной, как представляют некоторые левые исследователи, указывая на то, что российское вмешательство «одновременно обеспечило техническое выживание Донецкой и Луганской народных республик, но в то же время лишило их перспектив самостоятельного развития» (Кагарлицкий, 2017: 253). Трудно отрицать, что параллельно с народным подъемом в пророссийскую сторону существовал «банальный грабеж, “отжим” в мутных водах революции, пока еще не было толком создано новой власти» (Губарев, 2016: 208). При этом налицо проблема нетерпимости государства именно к конструктивным народовластным проявлениям, вроде оттеснения от власти подлинно народных лидеров антимайданного и пророссийского движения (П.Ю. Губарев, М.В. Руденко и др.). Наконец, непосредственно сейчас в ходе СВО обнаруживается откровенная враждебность близких официальной власти политтехнологов в отношении ряда волонтерских движений, направленных на поддержку российских военных, находящихся в зоне боевых действий. Все это заслуживает отдельной работы и, возможно, не объема статьи.
В-пятых, необходимо отметить небезуспешные комплексные усилия российской правящей элиты в плане создания «общественности», которую либеральный политолог А.В. Колесников определяет в качестве прирученной государством части гражданского общества, противопоставляя ей подлинное «общество граждан», конфронтационно настроенное к официальной власти1. Подобную позицию мы считаем несколько упрощенной и идеологизированной. Помимо субъектов (организаций, блогеров), действительно представляющих собой проект верховной власти, имеются группы, не столько целиком подконтрольные, сколько находящиеся с государством в состоянии компромисса и сотрудничества. Таковым представляется функционирующий с 2013 г. Изборский клуб, базовой идеей которого выступает патриотизм левого или правого толка.
В качестве общего вывода по статье следует отметить превалирование в современных процессах отечественного политогенеза бюрократической составляющей, функциональность и дисфункциональность которой к настоящему моменту проявляются в сопоставимой степени. Бюрократизация выступает ключевой характеристикой стадии зрелого государства и, будучи органичной формой политической организации, проникает глубоко в негосударственные сферы, во многом модифицируя их сущностный смысл и подчиняя своей логике все новые социальные сегменты. Естественно, под этим прессом оказываются социальные акторы, которые содержат импульсы более активного участия в общественной жизни и решении проблем различного, в том числе национального, масштаба. Вместе с тем проявления народовластия, выступающие реакцией на вакуум власти, могут нести в себе неоднозначный потенциал, в том числе возможности социальной хаотизации, в чем нужно видеть следствие аномизации общества, отсутствия конструктивных идей национального строительства в современной России.
Список литературы Историософские аспекты отечественного народовластия: стадия зрелого государства: статья 3
- Андреев Д.А., Бордюгов Г.А. Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина: краткий курс: X–XXI вв. М.; СПб., 2004. 160 с.
- Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. М., 2007. 363 с.
- Гринин Л.Е. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории // История и современность. 2006. № 1. С. 3–45.
- Губарев П.Ю. Факел Новороссии. СПб., 2016. 416 с.
- Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. М., 2010. 944 с.
- Журавлев В.В. Дихотомия реформ и революций в процессах модернизации России // Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: в 4 т. / отв. ред. И.Н. Данилевский. М., 2016. Т. 4. С. 663–671.
- Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. 288 с.
- Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М., 1994. 495 с.
- Кагарлицкий Б.Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. М., 2017. 276 с.
- Кагарлицкий Б.Ю. Корпоративная утопия Владимира Путина // Неприкосновенный запас. 2006. № 4–5. С. 48–49.
- Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004. 528 с.
- Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: от начала до наших дней. М., 2008. 1200 с.
- Ключевский В.О. Курс русской истории: в 5 ч. М., 1937. Ч. 5. 456 с.
- Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): в 2 т. СПб., 2000. Т. 2. 568 с.
- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ: в 2 т. Т. 1. С древнейших времен до Великой Смуты. М., 2010. 376 с.
- Нефедов С.А. История России. Факторный анализ: в 2 т. Т. 2. От окончания Смуты до Февральской революции. М., 2011. 688 с.
- Норин Е.А. Чеченская война: в 2 т. Т. 1. Н. Новгород, 2021. 352 с.
- Оболонский А.В. Бюрократия и государство. Очерки. М., 1996. 67 с.
- Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система против личности. М., 1994. 352 с.
- Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека: сб. ст. / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. СПб., 2008. 201 с.
- Полосин В.С. Миф. Религия. Государство. Исследование политической мифологии. М., 1999. 440 с.
- Райх В. Психология масс и фашизм. СПб.; М., 1997. 380 с.
- Рой О.М. Коррупция в органах местного самоуправления // Актуальные проблемы научного обеспечения государ-ственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: сб. науч. тр. по итогам всерос. науч. конф. / отв. ред. В.Н. Руденко. Екатеринбург, 2016. С. 165–177.
- Смирнов В.М. Фронт Владимира Путина. Как побеждают на выборах. М., 2011. 208 с.
- Спиридонова В.И. Западные теории бюрократии и российская действительность // Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни / отв. ред. В.Н. Шевченко. М., 2008. С. 7–62.
- Тихонов Д.А. Политические традиции местного самоуправления в отечественной истории // Полития. 2004. № 3. С. 72–97.
- Устойчивое развитие сельских территорий. Институциональные основания устойчивого развития / А.А. Хагуров, Ю.Г. Тамбиянц, Е.Н. Клычёв, Т.А. Жукова, В.А. Передерий, Д.М. Аутлев, Ш.С. Асланов. Краснодар, 2020. 219 с.
- Шевченко В.Н. Российское государство и российская бюрократия: ретроспектива и перспектива // Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни / отв. ред. В.Н. Шевченко. М., 2008. С. 101–150.