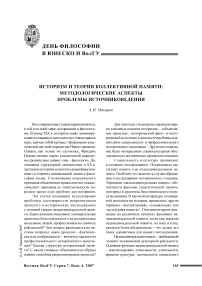Историзм и теория коллективной памяти: методологические аспекты проблемы источниковедения
Автор: Макаров Андрей Иванович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: День философии в Юнеско и Волгу
Статья в выпуске: 6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974132
IDR: 14974132
Текст статьи Историзм и теория коллективной памяти: методологические аспекты проблемы источниковедения
Все современные гуманитарии являются, в той или иной мере, историками и филологами. В конце ХIХ в. историзм занял доминирующее положение в методологии гуманитарных наук, венчая собой процесс оформления классической научной парадигмы Нового времени. Однако, как только это случилось, Фридрих Ницше смешал карты классической парадигмы, решительно заявив: «мы – филологи». Достижения структурной лингвистики в ХХ в. заставили историзм испытать сильнейшее влияние со стороны ницшеанской линии в философии языка. Столкновение классического принципа объективности реальности и неклассического принципа ее «текстуальности» породило целое поле проблем для историков.
Эта статья посвящена исследованию проблемы достоверности репрезентации прошлого в исторических исследованиях с позиций теории надындивидуальной памяти. Какое влияние оказывают универсальные архетипы бессознательного на историческое мышление людей, профессионально занятых рефлексией? Этот вопрос распадается на частные вопросы: какое прошлое – фактическое или воображаемое – является предметом профессионального исторического мышления? Какова структура исторической памяти? С какой степенью объективности образы памяти способны репрезентировать прошлое?
Для ответа на эти вопросы проанализируем ключевые понятия историзма – «объективное прошлое», «исторический факт» и «исторический источник» в контексте проблемы взаимосвязи социальности и профессионального исторического мышления 1. Другими словами, нас будет интересовать социокультурная обусловленность когнитивных процессов сознания.
Социальность и культура проникают в сознание опосредованно. Посредником выступает память в ее надындивидуальном аспекте. Особенно это заметно в случае обращения к исследованию исторического сознания. Термином «надындивидуальная память» обозначается феномен стратегической памяти, паттерны и архетипы бессознательного модуса мышления. В научной литературе, посвяще-ной методологии истории, прижились другие термины: «коллективная», «социальная» или «культурная память»2. Они акцентируют внимание на различных аспектах феномена надындивидуальной памяти, тогда как понятие надындивидуальной памяти, на наш взгляд, является более абстрактным, – что делает его более адекватным для нашего исследования.
Надындивидуальная память – необходимый элемент человеческой культурной реальности. Основная функция надындивидуальной памяти – конституировать длительности: длительность времени культуры, длительность социального опыта. Социальное время дискретно. Социокультурный опыт не передается генетически, и поэтому память должна была бы исчезать со смертью индивида, а время культуры рваться со смертью каждого поколения. Однако почему-то существует традиция, память не прерывается, и время культуры длится.
Чем обусловлено существование феномена длительностей, феномена традиции? Ответ философии культуры ХХ в. на этот вопрос состоит в том, что ключевую роль в обеспечении социокультурных длительностей играет язык. С помощью языка конституируются временные длительности, длинные волны социального времени, аспектом которого является интересующее нас время истории. Исторические нарративы являются одним из мостов между поколениями. Исторический рассказ о том, кто мы, откуда и куда движемся, создает культурную традицию, скрепляет коллективы, конструирует идентичность. В этом смысле можно сказать, что история – это идеология группы.
Миссия возникшей в ХIХ в. научной историографии состояла в том, чтобы избавиться от идеологичности. Наука истории, как центральный элемент проекта Просвещения, призвана было кардинально изменить роль и место историка и истории в жизни общества. Характерный для философии Просвещения сциентизм попытался снять с истории миссию быть magistra vitae, а историка избавить от титула идеолога и наделить его статусом частного следователя, имеющего дело с достоверными фактами. Теоретико-методологическим основанием для такой реформы стали гипотезы об объективном существовании исторических фактов и исторических источников. Рассмотрим идейные основания этих теорий.
Концепция «исторического источника» и «исторических фактов» опирается на идею следа. Прошлое оставляет следы, по которым его можно реконструировать в качестве виртуального образа объективного прошлого. Вторая фундаментальная идея теории историзма – это идея ученого-историка как «частного мыслителя». «Частный мыслитель» не плачет, не смеется перед лицом событий прошлого, а понимает их в силу того, что он свободен от обязательств «социального заказа».
Оправдались ли надежды историографии на метод классического историзма, призванный обнаружить исторический факт и исторические закономерности? И да, и нет. Заблуждение классической науки Нового времени состоит в том, что она определяет субъект научной деятельности в качестве субъекта некоего «чистого разума». Из этого допущения вытекают две ложные сциентистские установки:
-
- убежденность в способности источников отражать исторические факты, то есть сохранять и транслировать объективную информацию о времени своего происхождения;
-
- убежденность в том, что ученый является «частным мыслителем», то есть мыслителем, мышление которого действует вне социального контроля, вне идеологии какой-либо референтной группы, и потому он должен стать носителем всеобщего сознания, позволяющего ему понимать любого Другого (Другое время). Ведь он обладает не обычным сознанием, а сознанием, которое дисциплинированно практикой методических размышлений).
Фраза Ф. Ницше: «Фактов не существует, есть только интерпретации» открыла пути для переопределения не только цели историографии, но и самой природы исторического знания. Сегодня критики объективизма рассматривают науку (в том числе историю) как исключительно политический дискурс, пропитанный насквозь волей к власти. Этот тип нарратива, по их мнению, является не исследованием, а использованием прошлого.
Мы не разделяем этого радикально-нигилистического подхода. Однако нельзя не признать, что идея о конструктивистском характере знания о прошлом имеет под собой основание. Прошлое – это конструкт. Понимание реалий прошлого протекает в рамках, имеющих социально-культурную, то есть темпоральную природу. Вместе с тем конструктивистский характер результатов научного исследования не перечеркивает полностью возможности встречи с реальным прошлым, не превращает прошлое в фикцию воображения, в фантазм политически ангажированной памяти. В то же время, еще раз отметим, что сциентистский идеал не зависимого от воображения исторического исследования утопичен. Нельзя восстановить объективную фактичность прошлого, но возможно реконструировать реальное прошлое .
Соль предлагаемого нами варианта решения проблемы научной достоверности репрезентации прошлого – в замене концепта «объективное прошлое» на концепт «реальное прошлое». И это – спор не о словах, а о механизмах работы памяти и ее связи с сознанием и мышлением.
Мышление «работает» благодаря вступлению людей в социальные отношения, которые неразрывно связаны с нахождением человека в поле языка. Информация хранится в памяти в виде сгущений значений. Эти сгущения не поддаются разряжению до какого-либо конечного ряда значений: содержание символов не может быть исчерпано, разложено до элементарного уровня знаков.
Память – это многоуровневая информационная система, многие эффекты которой далеко выходят за рамки нейропроцессов, составляющих основу индивидуальной памяти. Определяющие работу мышления фреймы, автоматизмы мышления являются результатом двустороннего процесса взаимодействия нейрофизиологических процессов и надындивидуальных структур памяти. Культура является «веществом», в котором проявляется рисунок силовых линий социальности или структур надындивидуальной памяти. Со смертью тела погибают специализированные клетки головного мозга, но при этом утрачивается не вся память: то ее измерение, которое мы называем надындивидуальной памятью, присутствует в текстах культуры в компактифицированном виде. При специальной герменевтической работе эта информация может быть разархивирована и дешифрована.
Историческим источником может быть любой артефакт, к которому подобраны соответствующие коды. Ключевыми кодами являются символы группового единства, то есть такие сгущения смыслов, которые определяют групповую идентичность, обеспечивают выживание коллектива во времени и пространстве. Облаченные в текст символы представляют из себя историю о реальном прошлом . Реальное не значит объективное. Реальное значит действенное, реализующее сцепление частей в единство, – актов психики в единство самосознания, отдельных индивидов в целостную группу.
Память не создается наукой, потому что память не относится к усилиям интеллекта. Ис- ториография не память, а средство воздействия на память, средство фокусировки сознания на определенных образах прошлого. Дешифровка источника – это его перекодирование с языка прошлого на язык настоящего. Когда происходит это перекодирование, то возникающие при этом новые значения позволяют состояться пониманию, осознанию смысла текста. Понимание является эффектом сопряжения индивидуальной памяти читателя и надындивидуальной памяти группового единства, в рамках которого был создан текст источника, его смысловая структура. При этом роль организатора содержания сознания выполняют схематизмы (паттерны) мышления. Индивидуальные схематизмы мышления, в которых протекает понимание, детерминированы не столько биографическим опытом индивида, не индивидуальной памятью, сколько коллективной памятью. Соотнесенность индивидуального сознания с коллективным делает возможным извлечь из источника информацию о реальном прошлом. Реальное знание о прошлом – это знание о реальном прошлом группы, знание о символах, объединяющих индивидов в группу. Именно эта социогенная информация и может быть извлечена в процессе «допроса» источника исследователем, который получает такую возможность в силу того, что он сам в какой-то мере включен в исторический процесс актуализации значений символов группового единства. Таким образом, можно утверждать, что реальное прошлое – это традиция, – сохраняемый и передаваемый через поколения социальный опыт.
В силу своей включенности в поле социальности любая реконструкция является не фактографией некой «всеобщей истории», а нарративом, рассказом об истории символов той группы, которой это сообщение позволяет поддержать групповую идентичность. В этом смысле история – это не изучение жизни, а то, что приносит жизни пользу или вред, – в зависимости от того, продолжается ли, благодаря такой истории, коллективная форма жизни, или разрушается с ее помощью (или в силу ее беспомощности перед лицом вызовов коллективным идентичностям).
Исторический дискурс, с одной стороны, связан с архетипами, уходящими своими корнями в прошлое группы, а с другой – с политичес- кой фантазией, направленной в будущее этой группы. Таким образом, исторический нарратив – это конструкт традиции и политического воображения. Способ дешифровки источника всегда сопряжен с личной захваченностью человека смыслами. Смыслы потому и смыслы, что способны воздействовать, запускать моторику мышления. Моторика мысли запускается эмоциональным переживанием, обеспечивающим вживание в источник. Смысл, в той или другой степени, всегда связан с эмоциональном фоном памяти, с образами. Ставший девизом историков-позитивистов призыв Спинозы к ученым: «не плакать, не смеяться, но понимать» – утопичен. Если не плакать и не смеяться, нельзя инициировать и процесс понимания текста. Если не произойдет переживания и вживания, то текст позволяет только себя наблюдать. Но историк – не этнограф или энотомолог: он не может наблюдать прошлое, он может лишь понимать его. Осмысление – это активизация слоев сознания, а понимание – эффект сопряжения двух языков – текста и памяти исследователя. Языки – это системы образов, возникновение которых в сознании сопровождается эмоциональным фоном. Поэтому задача выработки научного метода понимания состоит не в исключении аффектов (как считали рационалисты ХVIII–ХIХ вв.), а в относительной нейтрализации аффективности с помощью тормозящей функции рефлексии.
Труд дешифровки источника неразрывно связан с игрой воображения. Если подавить воображение, то источники замолчат. Речь в данном случае идет о социальном и политическом воображении – о социальных, или коллективных мечтах. Такие мечты являются составной частью как мифологического, так и научного сознания. Миф гипнотизирует социальную реальность, обеспечивает существование традиции, длительности времени культуры. Наука делает то же самое, но другим способом.
Историки, живущие в «благополучные времена» (или живущие благополучно), имеют меньше возможностей вживания в тексты прошлого. Так, у них в какой-то степени атрофируется способность чувствовать Другого, другое прошлое. В кризисные времена легче осознать и осмыслить связь истории с традицией, с идеологией 3. Один из самых проница- тельных в этом отношении историков, Э. Берк, так описывал связь истории и социальности: «она (нация, традиция, история) создается стечением совершенно своеобразных обстоятельств, случайностей, настроений, предпочтений и склонностей, моральных, гражданских и общественных нравов и привычек, которые раскрываются в большой временной протяженности. Это одежда, которая приспосабливается к телу. Отдельный человек может свалять дурака; в какой-то момент множество людей могут свалять дурака; но род мудр; и когда ему дается время, он всегда поступит правильно»4.
Источник настолько способен говорить о фактическом прошлом, насколько исследователь способен попасть в резонанс с ритмами традиции, которая овеществлена в источниках, материализована в том типе социальности, в котором историк пребывает. Именно устойчивость традиций является условием реального существования прошлого в виртуальном пространстве памяти.
Список литературы Историзм и теория коллективной памяти: методологические аспекты проблемы источниковедения
- Репина Л.И. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки)//Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ, 2003. Вып. 7.
- Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
- Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002. С. 560.