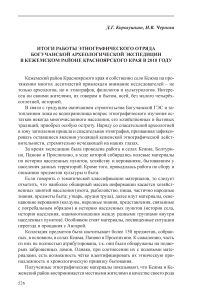Итоги работы этнографического отряда Богучанской археологической экспедиции в Кежемском районе Красноярского края в 2010 году
Автор: Коровушкин Д.Г., Чернова И.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521696
IDR: 14521696
Текст статьи Итоги работы этнографического отряда Богучанской археологической экспедиции в Кежемском районе Красноярского края в 2010 году
Кежемский район Красноярского края и собственно село Кежма на протяжении многих десятилетий привлекали внимание исследователей – не только археологов, но и этнографов, филологов и культурологов. Интересен он своими жителями, их говором и бытом, всей, без малого четырёхсотлетней, историей.
В связи с грядущим окончанием строительства Богучанской ГЭС и затоплением ложа ее водохранилища вопрос этнографического изучения остатков некогда многочисленного населения, его хозяйственных и бытовых традиций, приобрел особую остроту. Наряду со спасательной археологией в зону затопления пришла и спасательная этнография, призванная зафиксировать оставшиеся явления уходящей кежемской этнографической действительности, стремительно исчезающей на наших глазах.
За время экспедиции была проведена работа в селах Кежма, Болтури-но, Паново и Проспихино, в ходе которой собирались полевые материалы по истории населенных пунктов, хозяйству и верованиям, бытовавшим у населения данных территорий. Кроме того, проводилась работа по сбору и описанию предметов культуры и быта.
Если говорить о тематической классификации материалов, то следует отметить, что наиболее обширный массив информации касается хозяйственных занятий населения (охота, рыболовство, пища, частично народные знания, предметы быта: утварь, орудия труда), далее идут материалы, освещающие верования (колдуны, народные знания, представления, связанные с погребальным обрядом) и историю населенных пунктов (история села, история населения, взаимоотношения между разными группами внутри населенных пунктов). Особняком стоят материалы, посвященные ситуации переезда и прощания с Ангарой.
Коллекция предметов быта насчитывает более 150 предметов, собранных, в основном, в селах Кежма, Паново и Проспихино. К сожалению, часть из них не полностью атрибутирована, т.к. они были обнаружены на подворьях заброшенных домов. Однако, при соотнесении их с полевыми материалами, есть возможность чётко идентифицировать их этническую принадлежность и хронологическую привязку бытования.
Полученные этнографические материалы показывают, что Кежма и Ке-жемский район воспринимается местными жителями в качестве своего рода центра, границы между территориями, расположенными выше и ниже по течению. Многие из опрошенных нами «кежмарей» высказывались следующим образом по этому поводу: «А вообще, есть у нас «верховские» и «низовские». Верховские – это те, что жили выше по течению Ангары от Кежмы, а низовские – вниз по течению Ангары. Верховские считались, что ли, «лучше». Иногда верховских называли «верхними», а низовских «нижними»: «Верхние они более гостеприимные, вот мама моя, помню, говорила: «Человеку много не надо, хлеба, крышу да чаю». У нас можно было безо всего приехать – накормят, напоят и еще в дорогу дадут. А нижние даже чаю не нальют».
Кежмари стоят особняком среди ангарского населения, о них отзываются почти всегда уважительно. Население других населенных пунктов отмечает хозяйственную смекалку и любовь к порядку кежмарей. Кроме того, фиксируется их сплоченность между собой, которая видна даже в быту. Приведем для напримера воспоминания Нелли Зоновой, главного редактора газеты «Советское Приангарье», которая некоторое время жила в Кежме: «вообще, кежмари, конечно, отличаются от остальных, даже в быту. Вот, например, пригласили меня на праздник родственники мужа, приехали мы, а у них большой длинный такой стол накрыт, а там много-много мисок. В них все отдельно лежит – рыжики соленые отдельно, огурцы – отдельно, рыба – отдельно, картошка – отдельно. Только вилки лежат на столе. Каждый берет вилкой, что ему надо, да в рот тянет. А я сижу, мне как-то неудобно. Хозяйка заметила это и принесла мне тарелку, так я одна с тарелкой и сидела… В Кежме хозяйки смотрели друг на друга, очень ценилась чистота. В любое время года белье полоскали на реке. Особенно зимой, обязательно ходили на прорубь, а потом белье вывешивали на самом видном месте во дворе, чтоб соседи видели какое оно белое».
Помимо кежмарей встретилось нам и еще одно обозначение ангарских жителей – «макчоны» (мокчоны). Самим ангарцам обозначение «макчон» не нравится, они считают его пренебрежительным и оскорбительным. «Мак-чон» в переводе с эвенкийского – пескарь, который в изобилии водился вдоль берега Ангары.
Но традиционно именно кежмари поражали своей непохожестью, необычностью во всем: в языке, культуре и быте. Филологи и активисты зафиксировали особый ангарский говор [Новоселова, 1991; Самотик, 2001]. Отмечают его отличие от других и сами местные жители: «В Кежме говор был «тянучий». Бабушка моя ругалась раньше: «Ты куды пошла к лешаку?», или если я куда-то не туда залазила, то она говорила: «Ты почево там залезла?» («почево» – зачем? куда?)».
Собранные материалы в очередной раз подтверждают тезис о превалировании северо-русского типа культуры у русского населения на данных территориях, что отражается как в традициях домостроительства (высокие избы с подклетью, наличники, украшения и т.п.), так и в говоре, представлениях и верованиях [Быт и искусство…, 1971; Сабурова, 1967].
В силу схожих природных условий население данных территорий объединяет хозяйственный комплекс, характеризующийся важной ролью рыболовства и охоты в хозяйстве. Охотились здесь в основном на соболя, сохатого, белку, был подледный лов. Ставили ловушки, добывали щуку, ельцов и другую рыбу. Нередко рыбачили с острогой – лучили рыбу. Широко распространены были самоловы. Ангарцы четко держались своих промысловых территорий, нельзя было заходить на чужую территорию, а уж тем более нельзя было охотиться. За это наказывали, могли даже убить. Но могли и по-другому страшно наказать, например, снять и украсть дымовую трубу в охотничьем домике на твоей территории.
В пищевом рационе большой популярностью пользовалась рыба, особенно «рыба с душком», или «рыба-медовуха», как зовут ее в здешних местах (здесь конечно, не обошлось и без влияния аборигенного населения – эвенков, – на традиционную кухню русского населения региона). Заготавливали ее и на зиму – «солили в кадушках». Некоторые жители, даже переехав в город, пытаются приготовить «рыбу с душком», правда, «чтоб соседи не видели». Зимой из рыбы с душком делали подобие строганины.
Природно-географические условия повлияли и на поселения в данной местности. Основу составил приречный тип заселения, при котором населенные пункты располагались вдоль реки. Яркое доказательство тому – Кежма, вытянувшаяся вдоль Ангары примерно на 7 км. Кроме того, близость реки не могла не проявиться и в народных верованиях, например, в бытовании рассказов о русалках. Приведем один из них: «Однажды в Усольцевой (быв. д. Усольцево) вышел на берег мужчина, один пошел да перепугался. Прибежал, говорит: «Я видел русалку… Пошел я на Ангару, там на берегу бревно большое лежало, а она сидела на одном конце бревна и расчесывала волосы. Волосы у нее длинные, до другого конца бревна были они. Он когда зашумел в кустах, она испугалась и исчезла». Вскоре мужик тот женился, а у жены у его были длинные волосы. Может и знак это был. А русалок у нас называли волхитками. Мне бабушка раньше говорила, когда я ходила по дому с не расчесанными волосами: «Чё ходишь, как волхитка!?»».
Близость тайги фиксировалась уже на уровне языка, его образ прочно вошел в народный обиход, и даже превратился в широко распространенное ругательство: «А, чтоб тебя лешак увел». Кроме того, нестабильность таких видов хозяйства, как собирательство и охота, способствовали бытованию большого количества суеверий, связанных с опаской хвастовства добычей: «Кежмари никогда не хвастались добычей и места ягодные, рыбные или охотничьи не показывали никому, так-то они не жадные, сами наберут да тебя угостят, но чтобы показать – никому. Сглазить боялись. Спросишь у кежмаря: “Ну как улов?” или “Как добыча?”. Он никогда не скажет хорошо, а скажет: “В этом году-то как-то не очень, вот в прошлом году хорошая была”, на следующий год опять то же самое скажет».
Помимо воспоминаний о прошлом, была собрана информация и о современных жизненных реалиях. Наибольший резонанс вызывает вопрос об 528
отношении к такой важной части традиционной культуры, как перезахоронение погребений родственников. Многие жители категорически против данного процесса, особенно, люди пожилого возраста. Часть из них предлагает все могилы оставить как есть и не трогать, а часть предлагает залить их бетоном, «чтоб из-под воды покойники не всплыли».
К сожалению, ограниченный формат сообщения не позволяет детально проанализировать все собранные материалы, которые в части исследования традиционной культуры подтверждают выводы, сделанные в ходе более ранних изысканий сотрудниками местных научно-исследовательских организаций, о том, что данные территории – это место проживания старожильческих групп населения, в культуре которых сильно влияние природно-географических условий, с одной стороны, и аборигенных групп – с другой. Территория Кежемского района – это место компактного проживания достаточно замкнутой группы кежмарей, близких к поморам, а также немцев (Паново) и украинцев (Проспихино), которые в ходе постоянного взаимодействия оказывают влияние друг на друга. На наш взгляд, требуется более тщательное изучение современных реалий в части отношения к ситуации переезда и трансформации традиционной культуры, а также механизмов ее сохранения и передачи.