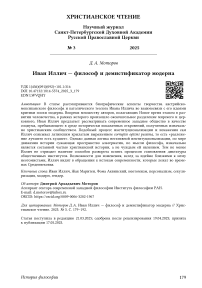Иван Иллич — философ и демистификатор модерна
Автор: Моторов Д.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются биографические аспекты творчества австрийскомексиканского философа и католического теолога Ивана Иллича во взаимосвязи с его идеями критики эпохи модерна. Вопреки множеству авторов, полагающих Новое время этапом в развитии человечества, в рамках которого произошло окончательное разделение мирского и церковного, Иван Иллич предлагает рассматривать современное западное общество в качестве социума, пребывающего в среде исторически искаженных откровений, полученных изначально христианским сообществом. Подобный процесс институционализации и искажения сам Иллич описывал латинским крылатым выражением corruptio optimi pessima, то есть «разложение лучшего есть худшее». Однако данная логика негативной институционализации, по мере движения истории сужающая пространство альтернатив, по мысли философа, изначально является составной частью христианской истории, а не чуждым ей явлением. Тем не менее Иллич не отрицает наличие способов разворота вспять процессов становления диктатуры общественных институтов. Возможности для изменения, вслед за идейно близкими к нему неотомистами, Иллич видит в обращении к истокам современности, которые лежат во временах Средневековья.
Иван Иллич, Жак Маритен, Фома Аквинский, неотомизм, персонализм, секуляризация, модерн, гендер
Короткий адрес: https://sciup.org/140312302
IDR: 140312302 | УДК: 1(436)(091)(092)+101.1:316 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_179
Текст научной статьи Иван Иллич — философ и демистификатор модерна
Введение: другой Иван Иллич
Вышедшая в 1979 г. и ставшая уже классической работа Жана Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна» стала своеобразной «реперной точкой» размышлений о судьбах модерна, которые развернулись после окончания Второй мировой войны. В различные десятилетия после войны к этой дискуссии подключались авторы порой с противоположных концов мира, привнося новые ракурсы и выявляя новые проблемы, требующие рассмотрения в рамках целостного «дискурса о модерне». Имена Т. Адорно и М. Хоркхаймера, М. Фуко, Ю. Хабермаса и З. Баумана стали привычными среди авторов, входящих в библиографию критических философских исследований эпох Нового времени и модерна1. Тем не менее, несмотря на устоявшийся список авторов по обозначенной выше теме, вне поля зрения отечественных исследователей остается еще немалое количество мыслителей, которые ввиду малой представленности переводов их работ на русский язык не рассматриваются в качестве философов, критически осмыслявших наступление Нового времени. Один из таких авторов — австрийско-мексиканский философ и теолог Иван Иллич.
Для российского научного сообщества Иван Иллич преимущественно остается автором, чье творчество было сосредоточено на рассмотрении альтернативных подходов к организации системы образования. В обширной библиографии статей, посвященных «образовательной» теме в мысли Иллича, его характеристики варьируют от «приверженца левых взглядов в образовании» [Кузнецова, 2018, 194] до «экстраординарного социального философа» [Сафронова, 2007, 298]. Основной акцент в подобного рода публикациях делается на оценке педагогических идей Ивана Иллича применительно к современному состоянию системы образования, однако за данной репрезентацией автора теряется полнота его мысли, которая в действительности была более изящной и затрагивала широкий круг вопросов.
Более полной по охвату тем творчества Иллича можно считать оценку, которую дал известный социолог и крестьяновед Теодор Шанин в своем предисловии к единственной изданной на русском языке книге Иллича «Освобождение от школ». Многолетний собеседник и друг австрийско-мексиканского философа охарактеризовал Иллича не иначе как «важнейшим демистификатором современности» [Шанин, 2006, 8]. Прекрасное образование в области медиевистики позволяло Ивану Илличу проводить «археологию» основных институтов и структур эпохи модерна (система здравоохранения, индустриализация, развитие книгопечатания, энергетика и т.д.), возвращаясь к их истокам, лежащим во временах перехода от Средних веков к Новому времени. Так, например, по свидетельству Дэвида Кейли, одной из тем, над которой усиленно трудился Иллич ближе к концу своей жизни, но которая интересовала философа в различных ее проявлениях на протяжении всей его жизни, являлось стремление объяснить, как из средневековых структур (особенно церковных) выросли модерновые институты в рамках формулы corruptio optimi pessima2 (см.: [Cayley, 2024, 20]). В процессе анализа рассматриваемых общественно-экономических явлений Иван Иллич старался пристально выявлять «когнитивные искажения», которые, как правило, сопровождались «словами-амебами», старающимися закамуфлировать понимание того или иного феномена и подменяющими его своего рода идеологией (см.: [Шанин, 2006, 8]). Например, анализируя систему здравоохранения, Иллич пришел к выводу, что медицина, становясь монополией, начинает диктовать критерии здоровья и болезни, а также определять набор услуг, которые могут пользоваться авторитетом у общества, тем самым отчуждая человека от собственного тела и собственной жизни (см. подр.: [Власова, 2013, 100]). Однако не только высокий уровень образованности позволил Ивану Илличу выискивать в имеющихся социально-экономических структурах искажения и альтернативные пути развития. Жизненный опыт философа, связанный с регулярными перемещениями по миру, пастырским служением в среде бедных пуэрториканцев, конфликт с Римско-Католической Церковью, закончившийся отказом от сана, — все эти события не в меньшей мере повлияли на развитие мысли Иллича, нежели чтение Фомы Аквинского, Игнатия Лойолы или же Жака Маритена. Прежде чем перейти к рассмотрению того способа «демистификации» модерна, которую предпринимал в своих работах Иван Иллич, вкратце рассмотрим основные этапы его жизненного и творческого пути.
Контексты и ландшафты мысли Иллича
Автор одного из немногих прижизненных интервью Ивана Иллича, а также хранитель его архива и душеприказчик Дэвид Кейли в своей книге-введении в мысль Иллича выделил как минимум четыре периода в эволюции взглядов философа: первый начинается в 1951 г., когда Иллич приступает к службе в священном сане в среде нью-йоркских пуэрториканцев; второй период приходится на 70-е гг. — время, когда Иллич напишет и опубликует свои ключевые работы, включая известное русскоязычному читателю «Освобождение от школ»; третий этап в карьере философа начинается с 1976 г., с закрытия Илличем и его коллегами Центра межкультурной коммуникации (Centro Intercultural de Documentacion, сокр. — CIDOC); четвертый и заключительный этап в развитии мысли австро-мексиканского философа пришелся уже на кон. 80-х — нач. 2000-х и продлился вплоть до смерти Иллича (см. подр.: [Cayley, 2024, 16–20]). Остановимся на тезисном описании каждого из обозначенных выше периодов.
В ноябре 1951 г. Иван Иллич, недавно рукоположенный в сан священника, прибывает в Нью-Йорк. К этому моменту Иллич уже успел активно поездить по Европе: родившись в 1926 г. в Вене, философ за первые 25 лет своей жизни пробыл несколько лет во Флоренции, обучался в университете Зальцбурга и в Папском Григорианском университете. В качестве мотивации для переезда в США Иллич называл, с одной стороны, нежелание включаться в «папскую бюрократию», а с другой — приглашение из Принстонского университета. Оказавшись в Нью-Йорке, в один из первых вечеров Иллич узнает о диаспоре пуэрториканцев, которые в то время активно прибывали в Америку. Иллича привлекло это сообщество иммигрантов, так как они ему виделись «уже не чужаками, но все еще чужими» («not foreigners, yet foreign») [Illich, 1971, 19]: пуэрториканцы были одновременно и гражданами Америки, и «детьми» испаноязычной среды; не католики в естественном смысле, подразумевающем получение веры от отцов, но продукт миссионерской деятельности
Испании. В последующие пять лет, вплоть до 1956 г., Иван Иллич несет службу в церкви Воплощения в нью-йоркском районе Вашингтон Хайтс. В 1956 г. Иллич становится проректором католического университета Пуэрто-Рико, где готовили миссионеров в том числе и для проповеди в латиноамериканских гетто. Конец 50-х гг. в жизни Ивана Иллича отмечен также и его личным знакомством с французским философом-неотомистом Жаком Маритеном, который определил в дальнейшем развитие и собственной мысли Иллича. В 1956-1957 гг. Иллич регулярно принимал участие в семинарах Маритена, на которых активно обсуждалось наследие Аквината (см.: [Cayley, 2007, 42]). По заявлению самого Иллича, наследие Фомы Аквинского им было усвоено исключительно через труды Маритена и представлялось ему «великолепной прогулкой по обители смыслов» (цит. по: [Cayley, 2024, 437]). Однако что же конкретно вынес Иллич из чтения текстов Аквината под влиянием неотомизма? Ключевой идеей, заимствованной Илличем у данного интеллектуального течения, можно считать маритеновский персонализм, помещающий человека в центр католической мысли (см.: [Bruno-Jofré, Zaldívar, 2016, 569]). В дальнейшем это внимание, уделяемое в мысли философа человеку и важности его бытия, станет основой для критики исторического искажения, произошедшего с откровениями христианского учения и выразившегося в оформлении последних в институты, которые не считаются с интересами индивидов.
К началу 1960-х Иллич, ощущая постепенно растущее расхождение с Римско-Католической Церковью, «отказался говорить в качестве священника» [Cayley, 2007, 62]. Годы службы в среде выходцев из Пуэрто-Рико стали дополнительной основой для критики Илличем миссионерских программ Католической Церкви в Латинской и Центральной Америках (см. подр.: [Illich, 1970, 45–53]). Даже личное участие Ивана Иллича во II Ватиканском Соборе и признание им положительных черт этого события не смогли привести философа к примирению с папским престолом: оставаясь на вполне консервативных позициях3, Иллич ставил в укор Католической Церкви отказ от участия в процессах развития стран, в которых велась проповедь христианства (см. подр.: [Illich, 1971, 85–94]), и излишнее расточительство при осуществлении благотворительных программ, которое не всегда признавалось клиром Католической Церкви (см. подр.: [Cayley, 2007, 63–64]). Подобное положение дел не могло не привести к конфликту с Ватиканом, апогеем которого стало церковно-судебное разбирательство в 1968 г. в Риме на основе поданных в Конгрегацию Доктрины веры докладов ЦРУ. Обвинение Ивану Илличу выдвигалось по четырем пунктам: «опасные доктринальные суждения», «ошибочные антицерковные идеи», «экстравагантные представления о духовенстве» (sic!) и «подрывная интерпретация литургической и экклезиологической дисциплины» [Cayley, 2024, 83]. Илличу предлагалось ответить по данным четырем пунктам на вопросы коллегии, возглавляемой хорватским кардиналом Франьо Шепером, однако в тайном письме последнему философ ответил отказом от участия в данной процедуре. После возвращения Иллича из Рима в мексиканскую Куэрнаваку, где к тому моменту с 1961 г. находился Центр межкультурной коммуникации, ставший одной из причин его конфликта с Римской курией, в начале 1969 г. Римско-Католическая Церковь инициирует процесс формального запрета контактов с CIDOC, что, в свою очередь, означало, что священники и члены различных прокатолических организаций не могли более посещать мероприятия, организуемые там. Опубликовав с помощью друзей несколько публичных писем с изложением своей позиции о деятельности центра и попытках запрета его деятельности, к марту 1969 г. Иван Иллич принял решение сложить священнические обязанности, о чем он сообщил в письме недавно вступившему в должность архиепископа Нью-Йорка кардиналу Теренсу Куку (см.: [Cayley, 2024,
86]). В дальнейшем, в 1989 г., в интервью радио CBC Иллич заметит, что к моменту выхода из Римско-Католической Церкви (и даже после этого события) у него все еще сохранялось желание «служить Церкви пером» [Part Moon Part Travelling Salesman, 1989, 6], однако описанные выше события стали преградой, препятствующей продолжению деятельности в рамках Римско-Католической Церкви.
Сложение сана позволило Ивану Илличу уделять больше времени волонтерской деятельности в рамках CIDOC, который к нач. 1970-х гг. уже превратился в полноценный свободный университет. Именно 1970-е гг. стали временем, когда философ написал и опубликовал свои ключевые работы, основанные на опыте, полученном в предыдущие десятилетия. Уже спустя два года после сложения Илличем сана, в 1971 г., выходит первая его громкая работа — «Освобождение от школ» [Иллич, 2006]. Руководствуясь своим опытом организации образования в Пуэрто-Рико, Иллич приходит к выводу, что образование становится мифом общества, стремящегося к не менее мифологизированным прогрессу и развитию (см.: [Cayley, 2007, 44]). Мифологизированность образования, согласно Илличу, заключается в том, что процесс образования становится ритуалом, в рамках которого проступает процесс менового приобретения (например, знания), и, тем самым, появляются потребители и производители объектов данного обмена. Из этих меновых отношений создается миф о ценности образования, который, в свою очередь, полагается в основу более глобального заблуждения — мифа о современном обществе, в котором образование является одной из наивысших ценностей. Стоит отметить, что Иллич не выступает при этом за полную отмену образования, скорее, его не устраивает, во-первых, система всеобщего образования, которая занимается созданием массового «образованного» человека, а во-вторых, — идея институциализированности процесса получения знаний, в рамках которого компетентность может передаваться только путем инкорпорированных в данный институт организаций и только заранее заданными этими же организациями методами (см.: [Cayley, 2007, 45]). В некотором смысле системе массового всеобщего образования Иллич предлагал противопоставить более открытые к локальным задачам и потребностям учебные заведения.
Период «философствования молотом» продолжился выходом в 1972–1974 гг. трех книг, которые самим Илличем были обозначены в качестве «революционных»: первого сборника эссе «Чествование понимания» («Celebration of Awareness», [Illich, 1971]) с подзаголовком «Вызов институциональной революции»; «Инструментов конвивиальности»4 («Tools for Conviviality», [Illich, 1972]) и книги «Энергия и справедливость» («Energy and Equity», [Illich, 1978]). Несмотря на существенное расширение тем сочинений в этот период времени, на протяжении 70-х гг. философа также продолжает интересовать вопрос соотношения знания и тех способов, какими его можно передавать далее. Подкрепляется этот интерес и продолжением деятельности в рамках CIDOC, где в практическом русле развивались идеи Иллича, которые он описывал в своих книгах той поры. Так, например, в 1972 г. в стенах Центра межкультурной коммуникации проходил семинар «Закон в конвивиальном обществе», в рамках которых происходило сопоставление идей Маркса и Иллича (см.: [Cayley,
2024, 140]). В это же время философ активно путешествует по миру, выступает на публике и участвует в конференциях: только за период с сентября по декабрь 1975 г. Иван Иллич успел побывать в Париже, Лондоне, Гамбурге, Женеве и Нью-Йорке. К этому же году Иллич уже опубликовал шесть книг, среди которых была и книга «Немезида медицины» [Illich, 1977].
Как и в случае с первой книгой Иллича, эффект от выхода «Немезиды медицины» оказался сродни взрыву бомбы: профессиональное сообщество врачей было весьма взволновано, поэтому неудивительно, что порой ответы на идеи Иллича превращались в целые книги [Horrobin, 1976]. В «Немезиде медицины» Иллич обрушивается с критикой на систему здравоохранения, которая становится монополистом в вопросах здоровья. Наращивая темпы развития медицинских технологий, медицина формирует особые общественные отношения, в рамках которых врач становится между пациентом и его смертью. Таким образом, считает Иллич, современная система здравоохранения способствует созданию «без-смертного общества» — общества, в рамках которого человек не может встретиться со смертью (см.: [Cayley, 2007, 155]). В подобном социуме нет места «искусству страдания» [Part Moon Part Travelling Salesman, 1989, 10], а ценность жизни постепенно утрачивается, так как она не может быть полностью раскрыта из-за отчужденности от смерти. Параллельно медицина распространяет паранойю, связанную со страхом заболеть, единственным выходом из которой, в свою очередь, становится медицинская помощь. Так, по мнению Иллича, формируется мифологизация врача, которая подкрепляется, например, тем, что философ назвал «диагностическим империализмом»: властью медиков над «здоровьем» людей5. «Немезида медицины» стала кульминацией творчества Ивана Иллича в 70-е гг.: книга, которая поначалу вызвала неоднозначные отзывы в среде профессиональных врачей, с годами стала классической рекомендацией к чтению при обучении на медицинских факультетах в Америке, а сам автор в дальнейшем не раз к ней возвращался, уточняя и корректируя свою позицию по вопросам здоровья и телесности.
Третий период в творчестве Ивана Иллича начинается с 1976 г., после принятия решения о закрытии CIDOC в Куэрнаваке. С одной стороны, закрытие было обусловлено тем, что, по мнению Иллича, центр выполнил все задачи, которые были на него возложены при основании, а с другой, инфляция в Мексике сильно усложнила финансовое положение организации (см.: [Cayley, 2024, 173–174]). Созданный Илличем еще в конце 50-х гг. в качестве курсов по финансово доступному и быстрому обучению испанскому разговорному языку, CIDOC стал крупным образовательным центром в Мексике, который на определенных отрезках своей истории по влиянию мог составлять конкуренцию ведущим миссионерским организациям католиков в стране. За более чем 20-летнюю историю Центр межкультурной коммуникации стал не только площадкой для плодотворного обсуждения идей Иллича, но и местом его встречи с единомышленниками, такими как, например, поэт и социальный критик Пол Гудман. С закрытием CIDOC произошли и изменения в стиле мысли Иллича: несмотря на то что он продолжал писать критические эссе, интересы его сместились больше в сторону истории. В первое время после закрытия Центра Иван Иллич переехал в Марбург, где в старом университете стал читать курс истории Средних веков и заниматься со студентами любительскими переводами текстов с латыни (см.: [Cayley, 2007, 80]). Как и ранее, в этот период своей жизни Иллич также активно путешествует по миру с лекциями и выступлениями, которые позже войдут в сборник «В зеркале прошлого». Внимательно просматривая перечень тем выступлений тех лет, можно увидеть, что, несмотря на уход в изучение истории, Иллич не оставлял и первоначальные вопросы своих более ранних размышлений: так, например, в январе 1985 г., по случаю 12-летия выхода в свет «Немезиды медицины», Иллич выступил в университете Пенсильвании с развернутым докладом-комментарием к данной работе.
Апогеем творчества Иллича в 80-х гг. Кейли считает работу под названием «Гендер» [Illich, 1982], в основу которой легли лекции, прочитанные философом в 1982 г. в Беркли. Иллич видел в гендере не просто социально-конструируемое явление, но инструмент (см.: [Illich, 1982, 92]), который позволял ему изучать пре-индустриальное общества, так как индустриальное общество создает соответствующий ему миф, определяющий статус и происхождение гендеров, а также скрывающий правду о «втором поле» [Illich, 1982, 3]. Как и прошлые работы Иллича, лекции о гендере не являются просто своего рода Begriffsgeschichte одного из явлений Нового времени, но скрывают привычные для мысли философа тропы: например, анализ влияния христианской иконографии на репрезентацию женской гендерной идентичности (см. об этом: [Illich, 1982, 157-169]). Критическое рассмотрение экономической истории выведено Илличем в сюжете о трансформации «гендера» (gender) в «пол» (sex). Дихотомия «пол/гендер» вводится философом по аналогии с концепцией общности и общества Фердинанда Тённиса. Гендер в мысли Иллича является понятием, в рамках которого культура включает в себя экономику, в то время как пол представляет обратную картину, где экономика включает в себя культуру (см.: [Cayley, 2024, 201]). Импульсом к появлению этих лекций стало знакомство автора со статьями по гендерной истории после завершения им книги «Теневая работа» («Shadow Work»). Написав, как сам выражался автор, «памфлет» о производственных силах, Иллич пришел к выводу, что, несмотря на пристальное внимание к вопросу работы, от него ускользнул нюанс, касающийся того, что вопрос гендерного разделения в труде исторически обусловлен (см.: [Cayley, 2007, 103]). Анализируя опыт своего проживания в т. н. примитивных культурах, Иван Иллич отмечал наличие «линий», которые разделяли в бытовых вопросах, например, предметы, характерные для мужчин и женщин. Современная же система труда, в рамках которой одну и ту же работу могут выполнять в равной степени как мужчины, так и женщины, представлялась Илличу следствием процесса «лишения гендерности» (degendered). Работу «Гендер» Дэвид Кейли назвал не понятой современниками, и, в целом, подобная справедливая оценка вытекает из признания самого Иллича, что ему как автору было трудно уместить в сорок лекционных минут основное содержание своей работы (см.: [Cayley, 2007, 105]).
С кон. 80-х — нач. 90-х начинается заключительный этап в интеллектуальной биографии Ивана Иллича. В этот период он продолжает писать глубокие и вдумчивые работы, которые, правда, уже не вызывают столь широкого обсуждения, как книги, написанные ранее. В 1998 г. в соавторстве с Барри Сандерсом он публикует книгу «АБВ: Алфавитизация массового сознания» («ABC: The Alphabetization Of ^e Popular Mind», [Illich, Sanders, 1988]). Во многом этот труд продолжает развивать интересовавшие Иллича вопросы, связанные с процессами понимания и способами передачи знания, но здесь Иллич и Сандерс концентрируются на рассмотрении перехода человечества от устной речи к письменной и роста роли алфавитов в формировании обществ (см. подр.: [Illich, Sanders, 1988, X–XI]). В это же время Иллич знакомится с Дэвидом Кейли, который с момента записи интервью для Канадской радиовещательной компании стал чутким собеседником философа. Плодами этого сотрудничества стала не только вышедшая в 1992 г. книга «Разговоры с Иваном Ил-личем» («Ivan Illich in Conversation» [Cayley, 2007]), но и работа «Реки севернее будущего» («The Rivers North Of The Future», [Illich, 2005]), вышедшая с подзаголовком «Завет Ивана Иллича, переданный Дэвиду Кейли». Как следует из названия, одной из главных тем одной из последних прижизненных книг Ивана Иллича становится Священное Писание, которое мыслитель берется отчасти комментировать в духе давно интересующей его мысли о corruptio optimi pessima. Это крылатое выражение является для Иллича иллюстрацией того, как все самое лучшее, что было привнесено в европейскую культуру Благой вестью и христианством, под влиянием развития общества и институтов извратилось до состояния, в котором эти формы обнаруживал уже сам Иван Иллич (см.: [Cayley, 2007, 123]). Подробнее на описании того, как именно Иллич видел искажение средневековых христианских структур с началом Нового времени, мы остановимся в следующем разделе нашего исследования. А здесь стоит отметить, что намеченная в кон. 1960-х — 1970-х гг. траектория критики современного Илличу состояния общества, пройдя через возрождение интереса к Средним векам, в конечном итоге ближе к концу жизни мыслителя нашла свое завершение в обращении вновь к Новому Завету. В некотором смысле та «археология структур», которую Иван Иллич проделывал с рассматриваемыми им явлениями модерна, воплотилась и в его собственной жизни, в эволюции его исследовательских интересов. В последнее десятилетие своей жизни Иллич вел менее открытый образ жизни, продолжая периодически публично выступать и писать. Последняя книга Иллича вышла уже после его смерти в 2002 г. от рака, который еще в 1980 г. философ отказался оперировать из-за опасности остаться в вегетативном состоянии, без возможности свободно мыслить и творить.
Иван Иллич и мир искаженного христианского Откровения
Биография философа является материалом, объясняющим истоки его мысли порой не хуже, чем рядовой анализ «круга чтения» того или иного автора. Насыщенная жизнь, основательное католическое образование, разнородные собеседники, регулярная смена окружения — все эти факторы в жизни Ивана Иллича способствовали становлению особенного видения действительности, в рамках которого, критикуя нелицеприятные для него явления, философ доходил до истоков современности, которые, по его мнению, лежат в средневековых структурах. Однако какова была современность Ивана Иллича?
XX в. имеет множество характеристик, среди которых нас интересует в рассматриваемом контексте описание, предлагающее считать данную историческую эпоху «секулярным веком». Несмотря на то что сам термин «секуляризация» восходил корнями в том числе к каноническому католическому праву и обозначал возвращение в мир члена монашеского ордена, к XIX в. данным термином начали обозначать общий процесс высвобождения общественной жизни из-под влияния религии (см.: [Узланер, 2019, 11–12]), сопровождавшийся появлением с XVIII в. не менее жизнеспособной альтернативы эксклюзивного гуманизма (см.: [Тейлор, 2017, 525]). К 60-70-м гг. XX в. — периоду, на который пришлось начало публикационной деятельности Иллича, — тема секуляризации уже начала становиться академическим мейнстримом, к которому было приковано внимание видных ученых-гуманитариев (см.: [Узланер, 2019, 36]). Иван Иллич не был согласен с тем, чтобы считать современную ему эпоху «секулярным веком». По мнению философа, постхристианская реальность как итог процесса секуляризации может быть достигнута окончательно только тогда, когда будет «секуляризировано» и одно из главнейших христианских понятий — понятие зла (см.: [Illich, 2005, 183]). Без секуляризации — а по сути, оправдания и очищения — зла невозможно полноценно представить время после христианства. И, поскольку в мире все еще существует всякого рода несправедливость и неравенство, поскольку, например, благотворительные инициативы Римско-Католической Церкви, деятельным членом которой некогда был и сам Иллич, оборачиваются провалом возложенных на них ожиданий, — судя по всему, зло все еще присутствует в мире, а следовательно, текущую эпоху никак нельзя назвать постхристианской. Именно в этом моменте Иллич открывает как для себя, так и для своих читателей, что, по сути, современность — это искаженная христианская реальность, а не «время после». И становление этой реальности проходило именно в рамках формулы corruptio optima pessima , то есть деградации всего лучшего, что было в христианстве, но деградации не внешней, а именно внутренней, присущей и самому учению Христа и Его Церкви.
Однако, прежде чем перейти к более внимательному рассмотрению того, как, по мнению Ивана Иллича, те или иные фрагменты христианского учения по ходу истории деградировали в искаженные феномены модерна, стоит в общих чертах охарактеризовать, какое место занимала формула corruptio optima pessima в творческом наследии Иллича и как она стала путеводной нитью в его процессе демифологизации современности.
Как уже отмечалось ранее, интерес Иллича к идее о том, что современность можно рассматривать в качестве итога искажения церковных структур, возник на последнем этапе его творчества, в 80–90-е гг. Сам Иван Иллич не настаивал на том, что его идеи о corruptio optima pessima можно считать законченной философской системой, описывающей развитие европейской культуры, — скорее, это была «исследовательская гипотеза», подтверждения которой философ находил на протяжении всей своей жизни (см.: [Cayley, 2024, 359]). Например, в серии интервью с философом, записанных Д. Кейли и вышедших в эфир под названием «Разложение христианства» на рубеже тысячелетий, можно обнаружить повторную рефлексию на тему христианской благотворительности, которую мыслитель активно критиковал в 60-е гг. Согласно Илличу, идеи христианского гостеприимства как действия, выполняемого из любви к ближнему, институциализируются до католических благотворительных фондов, с одной стороны, из-за убеждения в том, что организация может сделать больше, чем небольшое сообщество верующих (см.: [^e Corruption of Christianity]), а с другой — из-за стремления придать публичный характер христианской добродетели в целях получения общественного влияния (см.: [Illich, 2005, 182]). Таким образом, забывается первоначальный смысл христианской идеи о любви к ближнему, проистекающей из проповеди Евангелия, и подменяется критериями «эффективного расходования средств» в рамках благотворительных программ, что, в свою очередь, ведет и к обмирщению самой Церкви, о чем философ писал еще в кон. 1960-х (см.: [Иллич, 2006, 39]).
Иван Иллич не считал, что подобные примеры corruptio optima pessima являются чем-то негативным — они, скорее, являются диалектическими маркерами, указывающими на наличие альтернативной возможности реализации «лучшего», которое уже существует, пусть и в виде порожденного им же «худшего» (см.: [Illich, 2024, 359]). При этом даже самые уродливые формы институционализации и регуляции Откровения, против которых выступал Иллич и которые, по его мнению, лишают человека значительной степени свободы, все равно внутри себя содержат потенциал к радикальному изменению положения дел. Ведя разговор о том, как именно воплощается принцип corruptio optima pessima в истории, а также о вариантах выхода из тупиков, порождаемых подобным процессом, Иллич регулярно возвращался к притче о добром самарянине6 как к примеру слома оформившихся норм древнего мира (см.: [Illich, 2005, 139]). Изучая тексты HI—XIX вв., отсылающие к данному фрагменту Евангелия, Иван Иллич пришел к выводу, что длительное время данная притча принималась христианским сообществом не как рассказ о свободе выбора, но скорее как определенное предписание нормы поведения. По мнению же Иллича, притча о добром самарянине демонстрирует и слушателям, и читателям пример того, как человек, нарушая установленные в определенный исторический период границы норм гостеприимства и заботы о ближнем, руководствуясь своим внутренним чувством (Иллич делает акцент именно на встречающемся в греческом тексте Евангелия от Луки слове splágchnon, отсылающем к особому чувству сострадания, описываемого в Библии), а не согласно долгу или желанию выполнить некое правило, решается помочь неизвестному человеку (см.: [Cayley, 2024, 351]). Таким образом, ключевым моментом притчи, по Илличу, является именно произошедшая свободно «смена оптики» во внутреннем мире самарянина, позволившая увидеть в лежащем на окраине дороги человеке — ближнего, которому необходимо помочь, что совсем не было свойственно тем временам. Иными словами, до притчи о добром самарянине одной из «норм нормирующих» вопросы отношения к ближнему в рамках античного мировоззрения был рассказ о гостеприимстве Авраама, описанный в книге Бытия (Быт 18:1–8). Однако, учитывая важность первой книги Торы как источника, регулирующего вопрос гостеприимства у определенного сообщества — еврейского народа, можно сделать вывод, что данное предписание не носило универсального характера. И подобно тому, как в Новом Завете обновляется Ветхий, в притче о добром самарянине обновляется и ролевая модель отношений с ближними. Отвечая на вопрос Своих учеников, Христос не просто оставляет указание на то, кто является ближним (по сути — абсолютно любой человек). Как выражался сам Иллич, данная притча демонстрирует, что «все же в любой момент мы все еще можем осознать, будучи даже палестинцами, что в канаве лежит еврей, которого я могу взять на руки и обнять» (цит. по: [Cayley, 2024, 351]). В Новом Завете Христос дарует сообществу верующих откровение о свободном выборе любви к ближнему, которое можно положить, в свою очередь, в качестве этической основы жизни христиан. Если в дособорные времена у христиан «было принято иметь запасной матрас, огарок свечи и немного сухого хлеба на случай, если Господь Иисус постучит в дверь в образе странника без крыши над головой» (цит. по: [Cayley, 2024, 358]), то с момента, когда Церковь при императоре Константине становится имперской, любовь к ближнему приобретает в том числе и форму xenodocheia, то есть специальных административных учреждений, которые, как правило, основывались епископами для ухода за иностранцами (см.: [Словарь античности, 1989, 314]). Таким образом, согласно Илличу, и происходит «институционализация» Откровения.
Институционализация как corruptio optima pessima всегда в себе содержит вариант альтернативной реализации той или иной деятельности — важна сама «смена оптики», основанная на внимании к знакам времени и внутреннему ощущению. По мысли Иллича, христианство и Церковь, даже несмотря на подобное историческое «искажение», все равно сохраняют в себе потенциал для радикального изменения, пусть даже порой и кажется, что пространства для подобного нет. Критикуя институты, Иван Иллич не преследовал цели окончательно с ними распрощаться — скорее, главной задачей подобной деятельности он ставил отстаивание возможности конкурентной альтернативы в той или иной области. Иллюстрацией подобной позиции может служить история, описанная самим Илличем в эссе «Почему надо отменить как саморазумеющуюся обязательность школы», когда в 1956 г. другом философа Джерри Моррисом для быстрого обучения учителей и социальных работников испанскому языку были набраны порядка 200 подростков через объявления на местной радиостанции (см.: [Иллич, 2005, 38]). Скованность в ресурсах и необходимость большому количеству человек в краткие сроки освоить определенный навык позволили создать вполне конкурентный по ряду показателей со всеобщей системой образования механизм получения новых знаний. Освобождение от школы обернулось лишь демонстрацией того, что вариативность образовательных задач может подразумевать и вариативность в способах их выполнения. Важным компонентом в понимании этого являлся лишь отказ от следования по проложенным рельсам «институциализи-рованного» образования и внимание к требованию мгновения.
Заключение: пролегомены к изучению наследия Ивана Иллича
Данная статья не ставила своею целью всеобъемлющий и полноценный охват творчества Ивана Иллича. В исследовании, скорее, была дана попытка привести новые контексты и идеи в уже имеющуюся отечественную рецепцию наследия этого философа. Несмотря на то что во многом можно утверждать об отсутствии какой бы то ни было актуальной исследовательской работы среди российских ученых, связанной с наследием Иллича, в настоящий момент из написанного выше можно сделать некоторые выводы.
В частности, важно отметить, что рассмотрение общего творческого пути, основных работ и поднимаемых в них философом тем позволяет говорить о том, что наследие Ивана Иллича выходит далеко за рамки закрепившегося за ним клише «философ образования». Особенно важно понимать это в рамках исследовательской работы в сферах, которые так или иначе связаны с творчеством австро-мексиканского философа и теолога. Во-первых, следует сказать, что активизировавшийся в последнее время интерес к философии тела (нашедший, в частности, выражение в монографиях Анастасии Тороповой [Торопова, 2024] и Бориса Гройса [Гройс, 2024], вышедших из печати в последний год) формирует пространство, в рамках которого нельзя не учитывать как минимум ставшую уже классической на Западе работу Ивана Иллича «Немезида медицины», а как максимум — цикл лекций «Гендер». Философия телесности еще остается зарождающимся только направлением в отечественных исследованиях, и обращение к авторам, которые, как Иллич, снискали уже признание, позволит обогатить новые области философского знания.
Во-вторых, идеи Ивана Иллича о corruptio optima pessima позволяют дополнить два не менее актуальных направления научной деятельности: с одной стороны, исследования генеалогии модерна, а с другой — изучения вопросов секуляризации. В обоих случаях библиография работ, которая бы могла задать «сетку координат» для исследовательских полей, еще составляется, пополняясь как переводами зарубежных работ (напр.: [Асад, 2020]), так и изданием книг российских исследователей [Узланер, 2020], поэтому более доскональное изучение наследия Иллича по данным направлениям может послужить также обогащению обозначенных проблемных областей.
Отдельно хотелось бы остановиться именно на принципе corruptio optima pessima , попытка описать который была предпринята в данной статье. В действительности дело обстоит так, что фактура, которая могла бы служить более серьезной иллюстрацией действия этой закономерности в западной культуре, мелкой россыпью разбросана по многочисленным текстам Иллича, так что для ее полноценного описания потребуется отдельная статья. Касаясь этой темы в данном исследовании, мы лишь ставили своей целью сформировать абсолютно иной метаязык для описания наследия Ивана Иллича: отойти от уже закрепившейся в русском языке «дешколяризации» (учитывая смыслы, которые вкладывал в слово deschooling сам Иллич, и русскоязычный контекст слова «школярство», нам кажется правильным переводить данный термин именно в таком ключе) Иллича в сторону его же понятий «конвивиальность» и формулы corruptio optima pessima , которые значительно расширяют горизонт понимания философских взглядов автора.
Наконец, важным будет также отметить, что попытка более многогранной репрезентации мысли Ивана Иллича, предпринятая в данной статье, важна также и ввиду активного перевода и обсуждения работ его современников, которые находились в единых с Илличем контекстах. Джорджо Агамбен и Чарльз Тейлор писали предисловия к разнообразным изданиям работ философа. Стоит отметить еще и Джона Милбанка, который, по мнению Дэвида Кейли, в своих теоретических построениях очень близок к линии мысли Иллича, а также Ханса Урса фон Бальтазара, которого даже несмотря на разницу в судьбах с рассматриваемым автором после II Ватиканского Cобора7, часто включают в единое течение католической «новой теологии» (и, если брать шире, то в движение ressourcement ).
В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данная статья не ставила своей целью полноценное описание взглядов и творчества Ивана Иллича, но, скорее, служит приглашением к знакомству с многомерным и многоплановым наследием этого автора. К сожалению, в России сейчас нет благодарных читателей Иллича, который своими концептуальными тропами может быть интересен и поучителен в ситуации более глобального кризиса, пошатнувшего основания западной культуры, фрагментом которой в том числе является Россия.