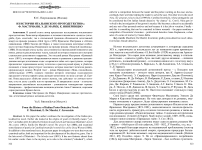Из истории итальянского протодетектива: Ф. Мастриани, Э. де Марки, К. Инверницио
Автор: Патронникова Юлия Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автор продолжает исследование итальянского протодетектива. Ранее автор обращалась к истокам итальянского «джалло» (итал. giallo, букв. «желтый»; так в итальянской традиции обозначается детективный жанр) на примере романов «Мой труп» (1852) Франческо Мастриани и «Шляпа священника» (1888) Эмилио Де Марки, а также исследовала некоторые особенности поэтики Каролины Инверницио на примере романа «Поцелуй покойницы» (1886). В настоящей статье в ряду уже упомянутых произведений появляются два новых, ранее не рассмотренных текста, каждый из которых показателен в истории становления детективного нарратива. Это поздний роман Мастриани «Кровавый тост» (1891), в котором обнаруживаются новые в сравнении с ранними произведениями автора детективные ходы: сохраняется тайна «кто преступник», которая предполагает соревнование между читателем и расследующей кражу и убийство полицией, а также присутствуют подсказки, которые помогают читателю решить криминальную загадку. Второй текст - роман Инверницио «Нина, полицейская-любительница» (1909), главную героиню которого некоторые исследователи предлагают считать первой в ряду женщин-детективов «по воле случая» (Л. Крови). Нина расследует убийство своего жениха, она действует по личным мотивам, а не по долгу службы или по призванию. В завершении статьи - в качестве направления дальнейшего исследования - упоминается «конкурентка» героинь Инверницио - профессиональная женщина-детектив Анна Стивенсон, персонаж серии рассказов Франко Белло.
Мастриани, де марки, инверницио, джалло, протодетектив, детективный роман, женщина-детектив
Короткий адрес: https://sciup.org/149141336
IDR: 149141336 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-322
Текст научной статьи Из истории итальянского протодетектива: Ф. Мастриани, Э. де Марки, К. Инверницио
Истоки итальянского детектива усматривают в литературе середины XIX в., практически за восемьдесят лет до появления серии криминальных текстов в желтой обложке «I Libri Gialli» (1929) издательства Арнольдо Мондадори. Эта серия дала название детективному жанру в итальянском языке - «джалло» (giallo, букв, желтый; другое название - «romanzo poliziesco», полицейский роман) - и положила начало его «золотому веку» в 30-е гг. в Италии (романы А. Варальдо, А. Де Анджелиса, Т.А. Спаньола, Э. Д’Эррико).
К предыстории итальянской детективной прозы - с большим или меньшим основанием - относят таких авторов, как К. Арриги (псевдоним Карло Ригетти), Э. Скарфольо, Ярро (псевдоним Джулио Пиччини), С. Ди Джакомо, Ф. Де Роберто, В. Имбриани, Р. Дзена, а также Д. Италико (псевдоним Джироламо Амати), Дж.А. Джустина, О. Санджакомо, М. Се-рао, Дж. Фарина, У. Романьоли, Э. Баццоки, А.Г. Банти, Г. Басси. И. Ила-ри, Л. Натоли, А.М. Джанелла, Ф. Белло, Ч. Саккетти, Р. Фузини, М. Дель Белло и других (многим из них М. Пистелли посвящает отдельную главу своего труда [Pistelli 2006]).
Свое место среди них занимают Франческо Мастриани, Эмилио Де Марки и Каролина Инверницио. На этих трех авторах и их романах, имеющих отношение к «джалло», будет сфокусировано внимание статьи.
Первым в ряду предвестников детективного жанра в Италии стоит имя Франческо Мастриани (1819-1891), неаполитанского писателя-фельетониста, журналиста, драматурга, создателя готических романов, а также автора романа-хроники «Неаполитанские тайны. Социально-исторические исследования» (I misteri di Napoli. Studi storico sociale, 1869-1870), испытавшего явное влияние «Парижских тайн» Э. Сю (1842).
Для детективного жанра значение имеет один из ранних романов Мастриани - «Мой труп» (Il mio cadavere, 1851-1852, Л’Омнибус, отд. изд. -1852), который благодаря акценту на медицинской проблематике (осмотр тела на предмет действительной смерти, проведение процедуры бальзамирования) П. Боттони называет «научно-медицинской готикой» [Bottoni 2012, 69]. Подобно герою Э. По из «Преждевременного погребения» (1844), персонаж Мастриани - барон Эдмондо - был особенно чувствите-

лен к рассказам о мнимой смерти (состояние оцепенения, которое вызывают некоторые болезни, могло походить на смерть) и боялся быть погребенным заживо. Чтобы минимизировать риск подобной врачебной ошибки, барон пишет завещание, согласно которому после его смерти должен быть проведен тщательный анатомический анализ тела и последующая процедура мумификации. Здесь и выступает на передний план доктор Вайс, размышления и действия которого напоминают поведение будущих сыщиков и детективов. Он еще раз осматривает тело барона: необычное потемнение губ наводит его на мысль об отравлении (барон действительно был отправлен), и потому рассудительный врач предпринимает следующий шаг в своем расследовании - опрашивает работников дома как потенциальных свидетелей дела. Однако, не подтвердив свои подозрения, доктор Вайс отказывается от версии об убийстве. Едва намеченное расследование не развивается. Убийца мог быть разоблачен другим персонажем (Маурицио Баркли), однако по разным причинам он не ищет доказательств. В итоге преступник, избежавший земного правосудия, наказывается самой судьбой: он не получает желаемого, тяжело заболевает и безвременно умирает [см. Патронникова 2019].
Тема божественного провидения и его роли в человеческой жизни звучит уже в романе «Слепая из Сорренто» (La cieca di Sorrento, Л’Омнибус, XIX, 1851), с которым связан первый масштабный писательский успех Мастриани. Так, нотариусу Томмазо Базилео, одному из причастных к убийству матери главной героини (оказавшись свидетелем убийства матери, девочка переживает тяжелое потрясение и теряет зрение), удается избежать тюрьмы, но он становится «жертвой Божьей Справедливости». В тексте сказано, что «природа избавит его от оков»: он тяжело заболевает, а «когда приговор был оглашен, нотариуса Базилео уже не было в живых».
Детективные мотивы можно также распознать в позднем романе Мастриани - «Кровавый тост» (Il brindisi di sangue, 1889, отд. изд. - 1891). Основой сюжета выступает не убийство, а таинственная кража денег в доме банкира графа Эразмо де Джильбертиса. Под подозрение поочередно попадают несколько персонажей. Первым из них становится юный секретарь графа, Ипполито Брунелли, вечером оставивший деньги в ящике своего стола, чтобы утром передать их адресату. Человек небогатый и не имеющий никаких титулов, Ипполито влюблен в дочь графа Чезиру и, как рассуждает следственный судья, мог быть заинтересован в краже денег, чтобы, разбогатев, добиться разрешения графа жениться на его дочери. Впрочем, невиновность секретаря очевидна с самого начала практически всем. Следом под подозрение попадает один из слуг графа - дон Луиджи де Сартис (его причастность к делу становится очевидной ближе к середине истории), а затем и младший брат графа - проигравшийся маркиз Раниери, который и оказывается виновным в краже денег, исполненной с помощью слуги Луиджи.
Обращает на себя внимание формальная связь этого романа Мастриани с типом французского «судебного» романа Э. Габорио: делом офици- ально занимается полиция, служители закона, а не частный детектив. Однако разоблачения виновного независимым следователем не происходит. В «Кровавом тосте» роль ответственного в деле следственного судьи, как и в целом полиции, представленной в крайне неприглядном виде (грубая и злая сила), продолжает быть второстепенной. Полиция формально вовлечена в расследование, но не играет в нем существенной роли: она берет под стражу секретаря графа до выяснения новых обстоятельств, ищет сбежавшего слугу, затем расследует его убийство, проводит обыск в доме графа, но о причастности его брата к делу она не догадывается. О вине маркиза Раниери в краже денег мы узнаем из его предсмертной записки-разоблачения. Он убивает себя, произнеся тост за свою смерть на праздновании своего же дня рождения. В смерти он как будто ищет искупления вины перед Ипполито, который после несправедливого обвинения и заточения в тюрьму тяжело заболевает и умирает. Однако дело, скорее, не в угрызениях совести, а в том, что маркиз оказался в очень сложном финансовом положении и потому решил уйти из жизни. Мастриани остается верным себе. «Доверимся божественному провидению, которое лучше нас умеет приводить в порядок вещи этого мира», - с самого начала советует Ипполиту его мать. В итоге виновные так или иначе наказаны, высшая справедливость не позволила им получить желаемого и благополучно существовать.
По ходу повествования Мастриани часто повторяет то, что уже было сказано в предыдущих главах, - напоминает читателям, как тот или иной персонаж связан с главными героями, вспоминает ранее произошедшие события. Это легко объясняется фельетонным типом публикации: в течение нескольких месяцев (с мая по июль 1889 г.) текст печатался частями в неаполитанском ежедневнике «Рома» (древнейшее издание объединенной Италии, основанное в 1862 г, на протяжении десятилетий было «голосом гарибальдийцев и мадзинианцев»), и потому нелишним было напоминать читателям некоторые обстоятельства. Но нельзя не заметить, что автор акцентирует внимание читателей и на том, из чего складывается полицейское расследование, повторяя и выделяя курсивом (по меньшей мере, в отдельном издании 1891 г.) в том числе такие детали, как ключевые слова из показаний слуги Луиджи, свидетельствующего против секретаря графа; некоторые фразы из любовного письма дочери графа к секретарю, к которым судья (и читатель) может отнестись с подозрением; тот факт, что Луиджи не вернулся в дом графа и тем самым навлек на себя подозрения и пр. Таким образом, читатель сам может оценить ход дела и включиться в расследование наряду с полицией. Когда Пистелли говорит о прямом отношении «Кровавого тоста» к «моделям настоящего детектива» [Pistelli 2006, 8], то он имеет в виду две вещи: как раз очевидный диалог автора с читателем, которому он оставляет подсказки для раскрытия тайны (помимо подозрительного исчезновения Луиджи, описывается также сомнительная репутация и финансовые трудности маркиза), а также обнаружение виновного в конце истории (для сравнения, и в «Слепой из Сорренто»,
и в «Моем трупе» виновные известны читателю с самого начала).
Роль персонажа, официально занимающегося делом, существенно возрастает в тексте другого ключевого автора в предыстории итальянского «джалло». Это роман «Шляпа священника» (Il capello del prete) Эмилио Де Марки.
Впервые роман «Шляпа священника» вышел в 1887 г. в качестве приложения (romanzo d’appendice) миланской газеты «Л’Италиа». По мысли самого автора, итальянские «романы с продолжением» вполне могут сравниться с французскими фельетонами. В «Шляпе священника» предлагается остросюжетная история сокрытого от всех убийства с поворотными сценами, повествовательными узлами, рассказами о второстепенных персонажах, что вполне соответствует жанровой модели фельетона.
Роман принес Де Марки настоящую популярность: текст прочитали сто тысяч человек и нашли его, как пишет сам автор во вступлении к отдельному изданию (1888), «трогательным и занимательным». Критики тоже оценили роман по достоинству, сравнив его с такими образцами литературы, как «Орест» Еврипида, «Царь Эдип» Софокла, «Привидения» Г. Ибсена, «Обрученные» А. Мандзони, а также «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Историк и писатель Чезаре Канту отметил «поразительную глубину», «интересный сюжет» и «простую форму» своего современника.
Несмотря на то, что замысел Де Марки еще далек от создания детективной истории (задача романа - дидактическая: создать поучительную историю, которая будет способствовать воспитанию и совершенствованию читателей), в тексте очевидны компоненты, типичные для этого жанра. Убийство священника дона Чирилло служит основой сюжета. Строго говоря, только читателю известно, что произошло преступление и кто убийца. Персонажи имеют дело только с предметом одежды пропавшего священника - шляпой (слетевшей в момент убийства), которая и определяет детективную линию в романе. Прежде всего, шляпа вводит тайну: все вовлеченные в дело справедливо задаются вопросом, что случилось со священником. Убор намекает на преступление: шляпа была найдена в противоположной стороне от места, куда, по рассказу священника, он собирался отравиться, к тому же подозрения вызывает глубокая вмятина на шляпе (только читатель знает наверняка, что священника убили ударом по голове). Наконец, этот убор дает ход расследованию.
Официально делом об исчезновении священника занимается следственный судья (расследование, как и в романах Габорио, ведется представителем закона), который, однако, появляется ближе к концу повествования. К тому же функцию детектива фактически выполняют несколько весьма прозорливых персонажей. Один из них - наблюдательный и рассудительный адвокат дон Чиччо, который, хотя и передает дело следственному судье, продолжает в нем участвовать: в том числе по его настоянию было решено провести допрос барона, на вилле которого была найдена шляпа (священника убивает барон). В некоторой степени роль детектива также выполняют журналист местной газеты и парикмахер барона. Примечательно, что и сам барон вынужден для себя решить загадку с этой уликой: по сюжету герою удается избавиться от, как ему представляется, шляпы своей жертвы, но в отличие от читателя, ему неизвестно, что это была шляпа другого священника, который в свое время по ошибке вместо своей взял шляпу пропавшего дона Чирилло. До самого конца барон считает, что утопил именно шляпу своей жертвы и потому не может понять, как этот убор мог попасть в руки судьи.
Следственный судья сомневается в том, что произошло преступление. Тем не менее в ходе допроса барона (последняя формальная процедура для закрытия дела) он внимателен к поведению и словам свидетеля, сосредоточен, учитывает все показания и задает поясняющие вопросы, т.е. проявляет важные качества детектива. Однако не судья раскрывает дело, криминальная история получает «психологическое разрешение» [De Nicola 2006, XVII]. Главным в романе Де Марки оказывается раскол в душе человека, осмелившегося на убийство (влияние «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского). Муки совести постепенно доводят барона до безумия, и на допросе он теряет контроль над собой и непроизвольно выдает себя. Как сказано в тексте, на героя сошло «безумие, мстительная ярость высшего разума». Таким образом, справедливость восстанавливается не благодаря проницательности человека (как ожидается в «классическом» детективе), но, как и у Мастриани, божественное правосудие не позволяют преступнику избежать наказания [см. Патронникова 2022].
Помимо Достоевского, немалое «психологическое» влияние на Де Марки оказал Габорио. Его романы, наряду с другой зарубежной прозой (Э. По, У. Коллинз), были в ходу в Италии уже с 60-х гг. Влияние «судебных» романов Габорио о полицейском Лекоке, в которых особое внимание уделяется психологии персонажей, испытали также детективисты Э. Скарфольо, Ярро, С. Ди Джакомо и др. Некоторые итальянские авторы и дальше (с 30-х гг.) продолжат следовать французской детективной линии, предпочитая модели традиционного «логико-математического» детектива реалистический, психологический «джалло» с вниманием к социальному окружению человека, его душевному состоянию [Pistelli 2006, 202-203]. Как говорит герой Де Анджелиса, комиссар Карло Де Винченци, «преступление - производная самой личности». Та же тенденция заметна у Д’Эррико: в его романах место гения-сыщика занимает обычный комиссар на службе Эмилио Ричард, который близок не только полицейскому Лекоку но и комиссару Мегрэ, герою Ж. Сименона.
Наряду с персонажем Габорио, другим значимым литературным образцом для подражания в Италии был знаменитый сыщик с Бейкер-стрит. «Этюд в багровых тонах» А. Конан Дойля вышел в 1887 г, в один год с «Шляпой священника» Де Марки. В 1895 г. рассказы о Шерлоке Холмсе появляются на итальянском языке, и под обаяние английского сыщика попадает все больше авторов. Среди последних оказалась в том числе Каролина Инверницио (1851-1916), одна из самых ярких представительниц массовой литературы рубежа веков, которая стоит у истоков «женского оо-

мана» и чье имя также может быть связано со становлением детективного жанра в Италии.
Образцом ее творчества справедливо считается роман «Поцелуй покойницы» (1886), демонстрирующий ключевые черты ее прозы: мелодраматические сцены, авантюрные сюжетные повороты, семейные тайны и интриги, роковая любовь, преступление и отмщение, переодевание и разоблачение, элементы «хоррора» и, главное, явный уклон в морализаторство. Р. Рейм справедливо называет девизом Инверницио триаду «Бог, Родина и Семья» [Reim 1986, XXXIII]. Основой сюжета «Поцелуя покойницы» выступает неудавшееся убийство главной героини. Она «воскресает из мертвых» (оправляется от отравления ядом) и восстанавливает нарушенный порядок: возвращает свою дочь, разрушает связь мужа с любовницей (по указанию которой он отравляет жену), восстанавливает его честь и в итоге воссоединяется с ним. Семья выступает безусловным идеалом, и в этом отношении никакой новой морали романы Инверницио не предлагают: героини придерживаются глубоко патриархальных ценностей, «борются не за то, чтобы что-то изменить, а за то, чтобы вернуть это что-то в норму» [Reim 1986, XXXIII]. Новым оказывается то, что нарушенный ход вещей восстанавливает женщина, главная добродетель которой, в представлении Инверницио, быть ангелом-хранителем домашнего очага, но которая также обнаруживает в себе силы и мужество противостоять злу, когда дело касается семьи, чести, доброго имени [см. Патронникова 2018]. Благодаря этой предприимчивой и волевой ипостаси героини Инверницио занимают место «сверхгероев» (dominatori) романов Сю, Дюма, Гюго. Именно эти, как пишет У. Эко, «женщины-победительницы» [Есо 1979, 24] играют главную роль в разоблачении преступников, разрешении заговоров, но делают они это в своих частных интересах, «из чувства любви, мести или желания восстановить справедливость» [Pistelli 2006, 56]. Таким образом, героини действуют по необходимости, «по воле случая».
Л. Крови предлагает вести начало так называемого «жанра женщин-сыщиков по воле случая» (investigatrici per caso) [Crovi 2020] от Нины из романа «Nina, la poliziotta dilettante» Инверницио. Книга вышла в 1909 г. и в 2020 г. была снова переиздана к своему юбилею (111 лет с момента выхода). Название романа непросто перевести на русский язык, не опустив при этом женский род слова «poliziotta»: возможные переводы - «Нина, женщина-полицейский-любитель», «Нина, полицейская-любительни-ца». Некоторые исследователи относят к итальянскому протодетективу и другие, вышедшие ранее 1909 г. сочинения Инверницио - «Похитители чести» (I ladri dell’onore, 1894), «Погребенная заживо. Исторический роман» (La sepolta viva. Romanzo storico, 1896), «Счастье преступления» (La felicita del delitto, 1907), отмечая в них возрастающую роль «детектива в юбке». Другие - наоборот, выделяют только Марию из романа «Погребенная заживо» и Нину из интересующего нас романа. М. Новелли в принципе связывает рождение итальянского детектива с именем писательницы: «Слишком часто забывают: джалло в Италии создается женщиной, благо- даря Каролине Инверницио» [Novelli 2019, 39].
Нина продолжает быть в рамках той же идеологии, утверждающей ценности семьи и брака. Она была бы верной супругой и заботливой матерью, но обстоятельства складываются иначе. Жениха Нины убивают, и героиня фактически принимает на себя обязательства полиции, оказавшейся бессильной в раскрытии этого дела. Нина начинает расследование по необходимости - чтобы разрешить личные конфликты: «Я женщина-полицейский, которая имеет священное право раскрыть всю правду». Для этого она инсценирует свое самоубийство, меняет внешность и далее действует под видом официанта Нани. Смена идентичности - один из типичных для романов Инверницио сюжетных ходов. Согласно такой нарративной схеме, переодевание, которое придает повествованию большее напряжение, в итоге должно смениться разоблачением: в конце происходит обратная смена идентификации, Нина разоблачает себя.
В расследовании дела героиня демонстрирует такие важные для детектива качества, как интуиция, настойчивость. Несмотря на то, что мотив расследования остается глубоко личным, Нина старается сдерживать эмоции, сохраняет спокойствие. Виновные же, как и прежде, не передаются в руки правосудия, но высшая справедливость тем не менее торжествует («плохие» герои в романах Инверницио, как правило, заканчивают жизнь трагически - они сходят с ума, убивают себя, безвременно умирают).
«Конкурентка» Нины-детектива появляется в том же 1909 г. Ей становится американка Анна Стивенсон из пьесы «Женщина-полицейский. Комедия в пяти актах» (1908), поставленной на сцене театра Адриано в Риме [Favaro 2020, 41]. Одним из авторов комедии выступил миланский писатель Франко Белло. В 1909 г. пьеса была опубликована, а в издательстве Флоритта вышла серия из четырех рассказов Белло под общим названием «Анна Стивенсон, женщина-полицейский». В отличие от героинь Инверницио, эта женщина-детектив восстанавливает общественный порядок, следуя своему призванию, а не частным интересам. Отсутствие личного мотива в расследовании также отличает от персонажей Инверницио таких героинь популярного жанра, как мисс Марпл, детектив-любительница Агаты Кристи, мисс Силвер, профессиональный детектив из романов Патриции Вентворт и др.
Рассмотренные романы Мастриани, Де Марки и Инвернцио показательны - каждый по-своему - в истории становления детективного нарратива в Италии. Мастриани считается первопроходцем «джалло» задолго до рождения первых детективов на итальянской почве, хотя в «Моем трупе» и «Кровавом тосте» еще нет завершенного расследования, виновные наказываются самой судьбой, высшим законом. Де Марки тоже не позволяет вовлеченным в дело персонажам довести его до конца, преступник наказывается собственной совестью. Психологическая линия, проявленная уже в «Шляпе священника», будет характерна для итальянского «джалло» в дальнейшем (романы Де Анджелиса, Д’Эррико, отчасти Дж. Щербанен-ко). Наконец, романы Инверницио рассказывают об особом типе женщин-
сыщиков «во воле случая» - предприимчивых и волевых женщинах, включающихся в расследование по необходимости, преследуя личные мотивы.
Список литературы Из истории итальянского протодетектива: Ф. Мастриани, Э. де Марки, К. Инверницио
- Патронникова Ю.С. Каролина Инверницио: некоторые особенности поэтики (на примере романа «Поцелуй покойницы» (1886)) // Вестник КГУ 2018. № 2. С. 101-107.
- Патронникова Ю.С. У истоков итальянского детектива: Франческо Мастриани // Поэтика зарубежного классического детектива. М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 243-257.
- Патронникова Ю.С. «Шляпа священника» Эмилио Де Марки: истоки итальянского «джалло» // Studia Litterarum. 2022. Т. 7. № 1. С. 124-147.
- Bottoni P. Il romanzo gotico di Francesco Mastiani: A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Italian Studies. Toronto, 2012. 222 p.
- Crovi L. Bella, coraggiosa e scaltra: il modello delle detective per caso ha 111 anni // Il Giornale, 28 maggio 2020. URL: https://www.ilgiornale.it/news/spettaco-li7bella-coraggiosa-e-scaltra-modello-delle-detective-caso-ha-1866136.html (дата обращения: 06.12.2021).
- De Marchi E. Il cappello del prete // De Marchi E. Romanzi / a cura di G. Titta Rosa. Milano, Mursia, 1963. URL: https://www.liberliber.it/mediateca/libri7d/de_mar-chi/il_cappello_del_prete/pdf/de_marchi_il_cappello_del_prete.pdf (дата обращения: 16.07.2020).
- De Nicola F. Storia delittuosa ma edificante di un prete miserabile e di un nobile ancor più miserabile // De Marchi E. Il cappello del prete / a cura di F. De Nicola. Sestri Levante (Genova), Grammara, 2006. P. V-XX.
- Eco U. Tre donne intorno al cor... // Carolina Invernizio, Matilde Serao, Liala, di Umberto Eco, Marina Federzoni, Isabella Pezzini e Maria Pia Pozzato. Milano, La nuova Italia, 1979. P. 5-27.
- Favaro M. Per una analisi sistematica computer-aided del "noir" italiano del primo cinquantennio postunitario: Dottorato di ricerca in Linguistica. Roma, 270 p.
- Invernizio C. Il bacio di una morta. Firenze, Editore Adriano Salani, 1926. URL: https://www.liberliber.it7mediateca7libri7i/invernizio/il_bacio_d_una_morta7pdf/ il_bac_p.pdf (дата обращения: 10.11.2021).
- Invernizio C. Nina, la poliziotta dilettante. Roma: Rina Edizioni, 2020. 400 p.
- Mastriani F. Il brindisi di sangue. Napoli, Editore Luigi D'Angelilli, 1891. URL: https://tspace.library.utoronto.ca7bitstream71807/9519/4/Il_brindisi_di_sangue. pdf (дата обращения: 25.01.2022).
- Mastriani F. Il mio cadavere. Pubblicazione S. l.: s. n., dopo il 1880. URL: https://www.liberliber.it7mediateca7libri/m7mastriani/il_mio_cadavere/pdf/mastriani_ il_mio_cadavere.pdf (дата обращения: 03.05.2021).
- Mastriani F. La cieca di Sorrrento. Napoli, 1856. URL: https://archive.org/de-tails/bub_gb_ZUxoZoV7UsUC/page/n3/mode/2up (дата обращения: 23.04.2022).
- Novelli M. Donne in cerca di guai // Tirature'19. Tuttestorie di donne / a cura di V. Spinazzola. Milano, Il saggiatore Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2019. P. 39-42.
- Pistelli M. Un secolo in giallo. Storia del poliziesco italiano (1860-1960). Roma: Donzelli, 2006. 405 p.
- Reim R. Candide nefandezze e timorate perversioni // Invernizio C. Nero per signora / a cura di R. Reim, prefazione di E. Sanguineti. Roma: Editori Riuniti, 1986. P. XXI-XXXVI.