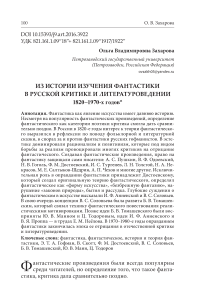Из истории изучения фантастики в русской критике и литературоведении 1820-1970-х годов
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Фантастика как явление искусства имеет давнюю историю. Несмотря на популярность фантастических произведений, определение фантастического как категории поэтики критика смогла дать сравнительно поздно. В России в 1820-е годы интерес к теории фантастического выразился в рефлексии по поводу фольклорной и литературной сказки, в спорах за и против фантастики русских гофманистов. В эстетике доминировали рационализм и позитивизм, которые под видом борьбы за реализм провоцировали многих критиков на отрицание фантастического. Создавая фантастические произведения, право на фантастику защищали сами писатели: А. С. Пушкин, В. Ф. Одоевский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов и многие другие. Исключительная роль в оправдании фантастики принадлежит Достоевскому, который создал оригинальную теорию фантастического, определял фантастическое как «форму искусства», «безбрежную фантазию», нарушение «законов природы», бытия и рассудка. Глубокие суждения о фантастическом в искусстве высказали И. Ф. Анненский и В. С. Соловьев. В свою очередь концепция В. С. Соловьева была развита Б. В. Томашевским, который связал технику фантастического повествования реалистическими мотивировками. Позже идеи Б. В. Томашевского были восприняты Ю. В. Манном и Ц. Тодоровым, идеи И. Ф. Анненского и В. Я. Проппа - в трудах Е. М. Неёлова. В 1970-1980-е годы оправданием фантастики закончилась эпоха ее отрицания в отечественной критике и литературоведении.
Фантастика, фантастическое, история и теория фантастики, э. т. а. гофман, в. скотт, ф. м. достоевский, в. с. соловьев, б. в. томашевский, ю. в. манн, ц. тодоров
Короткий адрес: https://sciup.org/14748985
IDR: 14748985 | УДК: 821.161.1.09“18”+ | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3922
Текст научной статьи Из истории изучения фантастики в русской критике и литературоведении 1820-1970-х годов
Ф антастические произведения были всегда популярны среди читателей, но определение того, что такое фантастика, критика дала сравнительно поздно.
В русской словесности фантастика представлена в фольклоре (см.: [2]; [4]; [32]; [33]; [26]; [28]; [34]; [31]), в литературе Нового времени, особенно в литературной сказке (см.: [20]; [23]; [24]; [45]; [19]; [31]), которая повлияла на такие жанры, как поэма, повесть, роман (см.: [27]; [29]; [30]; [31]), доминировала сказочная фантастика. Критики выделяют фантастическую и нефантастическую сказку ([38]; [3] и др.).
Начиная со второй половины 1820-х годов внимание к фантастике как феномену искусства в России усилилось в связи с популярностью творчества Э. Т. А. Гофмана среди писателей и критиков. По наблюдениям А. Б. Ботниковой, Гофмана читали практически все писатели, многие из них использовали в своем творчестве его темы и мотивы, фантастика стала салонной и литературной модой, ею восхищались, вели беседы о Гофмане и его произведениях, в литературных кружках сочиняли «устные повести на манер гофмановских», подражали ему в оригинальных произведениях [7, 13]. Среди русских последователей Гофмана следует назвать А. С. Пушкина, А. Погорельского, Н. А. Полевого, Н. В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, А. К. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.
В осмыслении фантастики важную роль сыграла статья В. Скотта «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827) (см. об этом: [7, 38–39]), в которой романист анализирует «разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе» [35, 619].
В. Скотт выделяет такую историческую форму фантастического, как «чудесное», которое «в сознании людей настолько сблизилось со сказочным, что их обычно рассматривают как явления одного и того же порядка» [35, 604]. По его мнению, поэт должен пользоваться сверхъестественным «бережнее, ибо критика теперь встречает его настороженно», так как оно возбуждает интерес, может быть «пружиной успеха»; этот интерес трудно поддерживать: «Чудесное скорее, чем какой-либо иной из элементов художественного вымысла, утрачивает силу воздействия от слишком яркого света рампы» [34, 605]. Романист советует возбуждать воображение читателя, «по возможности не доводя его до пресыщения», критикует увлечение поэтов «чудовищными образами», «атмосферой ужаса», выступает за ограничение сферы сверхъестественного в романе, против той игры фантазии, целью которой является развлечение читателя [35, 605–606].
В. Скотт называет воображение Гофмана больным, требующим «медицинского вмешательства» [35, 651]: «…не станем утверждать, что воображение Гофмана было порочным или извращенным, мы только подчеркиваем его необузданность и чрезмерное пристрастие ко всему нездоровому и страшному» [35, 631]. Он — «зачинатель фантастического направления в литературе, или, во всяком случае, первый значительный художник, который использовал в своем творчестве фантастику и сверхъестественный гротеск, столь близко подойдя к грани подлинного безумия, что он и сам пугался детищ своей фантазии» [35, 632].
Критика Гофмана В. Скоттом находится на грани отрицания фантастики.
В начале своей деятельности В. Г. Белинский положительно оценивал фантастические произведения современных авторов. Он благосклонно отзывался о фантастике Гофмана, Гоголя, Одоевского, но ему же принадлежит суровый приговор фантастическому в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов» [6, 214].
Рационализм и установка на реализм и эмпиризм в искусстве логично приводили многих критиков к отрицанию фантастического.
Одним из немногих, кто выступил против этой тенденции, был Достоевский, который вслед за Пушкиным и Гоголем не только дал гениальное развитие жанра фантастической петербургской повести («Двойник», «Крокодил») (см.: [12, 9–16]; [13, 23–74]; [16, 65–112]), активно использовал фантастические мотивы и сюжеты в своих произведениях (см.: [14]; [15]), но и создал теорию фантастического (см.: [11]; [12]; [18]).
Важным достижением в теории фантастического является рецензия Ф. М. Достоевского на три рассказа Э. По, в которой писатель изложил свою концепцию фантастического. Она была предметом анализа (см.: [11, 106–108]; [7, 151–154]; [43, 281–283]). По мнению Ф. М. Достоевского, произведения Э. По нельзя назвать фантастическими, это еще не фантастический род: «Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая впрочем его возможность и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности» [8, 63]. Фантастичность Э. По внешняя, «какая-то материальная», он «всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение» [8, 63–64]. Фантастичность Э. По Достоевский противопоставляет фантастичности Гофмана, который как поэт выше, у него есть идеал, «есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку», он «олицетворяет силы природы в образах: вводит в свои раз-сказы волшебниц, духов и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновенном мире, принимая этот мир за высший, как-будто сам верит в непременное существование этого таинственного волшебного мира…» [8, 63].
В письме к И. С. Тургеневу от 23 декабря 1863 года о публикации в журнале «Время» его повести «Призраки» Ф. М. Достоевский «поэтической правде» противопоставляет «копированное с действительного факта» [9, 50]. Он отмечает, что повесть похожа на музыку, форма ее «превосходна»: «Форма Призраков всех изумит. А реальная их сторона даст выход всякому изумлению (кроме изумления дураков и тех, которые кроме своего квакерства не желают ничего понимать. Я впрочем знаю пример одной утилитарности (нигилизма) которая хоть и осталась Вашей повестью недовольна, но сказала что оторваться нельзя что впечатленье сильное производит» [9, 50]. По мнению писателя, в «Призраках» много реального, которое « есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время уловленная тоска», «они не совсем вполне фантастичны» [9, 51].
В письме к Ю. Ф. Абазе от 15 июня 1880 года Ф. М. Достоевский хвалит идею ее повести и критикует автора за неловкость фантазии:
…Ваш потомок ужасного и греховного рода изображен невозможно . Надо было дать ему страдание лишь нравственное, сознание, кончить сделав из него кого-нибудь в образе Алексея человека Божия, или Марии Египетской, победившей кровь свою и род свой страданием неслыханным. А Вы напротив, выдумываете нечто грубо-физическое какую-то льдинку вместо сердца! Доктора лечившие его столько лет не заметили что у него нет сердца! Да и как может жить человек без физического органа? [10, 215].
В этом письме Достоевский излагает «предел и правила» фантастического в искусстве:
Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства написал Пиковую Даму — верх искусства фантастического. И Вы верите что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т<о> е<сть> прочтя ее Вы не знаете как решить: Вышло ли это видение всё из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов (NB. Спиритизм и учения его). Вот это искусство! [10, 215–216].
Фантастическое в понимании Достоевского — «форма искусства», «безбрежная фантазия», «произведение чисто поэтическое (наиболее поэтическое)», нарушение «законов природы», бытия и рассудка [11, 98–99, 105–113]. В. Н. Захаров определяет фантастическое как «эстетическую категорию и категорию поэтики Достоевского, которая устанавливает “пределы” и “правила” нарушения в искусстве законов объективного мира» [18, 53].
В статье о формах фантастического в искусстве И. Анненский ставит вопрос, что такое фантастическое, и отвечает: «Вымышленное, чего не бывает и не может быть». Реальное в жизни, по мнению критика, «то, что может быть, в творчестве, кроме того, типическое» [1, 207]. Поэт и критик относит фантастическое к воображению автора. Фантастическое и реальное, по мнению И. Анненского, близки друг другу: «Сближенность фантастического и реального в творчестве основывается на том, что творчество раскрывает вам по преимуществу душевный мир, а в этом мире фантастического, сверхъестественного в настоящем смысле слова — нет» [1, 208]. Фантастическое противоречит «человеческому опыту», но опыт «постоянно расширяется» наукой и техникой: «Область фантастического постоянно завоевывается умом, который переводит фантастическое в реальное и вносит в его область законы природы» [1, 209].
Е. М. Неёлов считал это определение фантастического лучшим в критике, постоянно приводил его в своих работах (см., напр.: [26, 30]; [30, 100–101]; [31, 7] и др.).
Свою лепту в теорию фантастического внес В. Соловьев в предисловии к повести А. К. Толстого, изданной в 1841 году под псевдонимом «Краснорогский»1 и переизданной в 1896 году. По мнению философа, интерес к фантастическому, «сверхъестественному» или «необычайному» в поэзии держится на «уверенности, что все происходящее в мире и особенно в жизни человеческой зависит, кроме своих наличных и очевидных причин, еще от какой-то другой причинности, более глубокой и многообъемлющей, но зато менее ясной» [40, 609].
Определяя признак подлинно фантастического в том, что «оно никогда не является, так сказать, в обнаженном виде», автор замечает: «Его явления никогда не должны вызывать принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а, скорее, должны указывать, намекать на него. В подлинно фантастическом всегда оставляется внешняя, формальная возможность простого объяснения из обыкновенной всегдашней связи явлений, причем, однако, это объяснение окончательно лишается внутренней вероятности» [40, 610]. Подробности «должны иметь повседневный характер, и лишь связь целого должна указывать на иную причинность» [40, 611].
Отрицая существование обособленных явлений фантастического и полагая, что загадочный или таинственный смысл возникает из совокупности реальных событий, В. Соловьев утверждает: «…бывают только реальные явления, но иногда выступает яснее обыкновенного иная, более существенная и важная, связь и смысл этих явлений» [40, 611]. По его оценке, повесть А. К. Толстого насыщена фантастическим элементом, который «везде растворен житейской реальностью и нигде не выступает в обнаженном виде», автор создает «удивительно сложный фантастический узор на канве обыкновенной реальности» [40, 611–612].
В рецензии на сборник рассказов С. Норманского «Оттуда» В. Соловьев отмечает, что творчество любого значительного писателя не обходится «без мистической и фантастической стихии», «сверхъестественное» — это «вполне законный элемент литературы» [39, 516]. Он настаивает: «…в фантастических рассказах непременно нужно избегать всяких резких, поразительных и ошеломляющих эффектов» [39, 517].
Концепция В. Соловьева была популяризирована Б. Томашевским, который в своем учебнике «Теория литературы. Поэтика» подробно проанализировал и высоко оценил его теорию фантастического:
Если снять с этих слов идеалистический налет философии Соловьева, то в них заключается довольно точная формулировка техники фантастического повествования, с точки зрения норм реалистической мотивировки. Такова техника повестей Гофмана, романов Радклифф и т. п. Обычными мотивами, дающими возможность двойной интерпретации, являются сон, бред, зрительная или иная иллюзия и т. п. [42, 149].
Б. Томашевский связал концепцию В. Соловьева со своей теорией мотивации фантастического. Он характеризует реалистическую мотивировку, источником которой является или наивное доверие, свойственное народной сказке, или требование иллюзии, в которой «мифологическая система или фантастическое миропонимание (допущение реально не оправдываемых “возможностей”) присутствует как некоторая иллюзорная гипотеза» [42, 148]. Под влиянием требований реалистической мотивировки «фантастические повествования в развитой литературной среде <…> дают двойную интерпретацию фабулы: можно ее понимать и как реальное событие, и как фантастическое» [42, 149].
Предложенная Б. В. Томашевским концепция мотивировок фантастического оказала влияние на развитие поэтики фантастического и интерпретацию фантастических произведений в отечественном литературоведении, на теорию фантастического Ю. В. Манна [21]; [22] и Ц. Тодорова [41].
Анализируя типы фантастического у Гоголя, Ю. В. Манн опирается на типологию Жан Поля, который определил три типа фантастического: два ложных способа «употребления чудесного» (при первом способе намеченные фантастические образы «дезавуируются самим автором», при втором — писатели «нагромождают чудеса, не объясняя их и не считаясь с принципами правдоподобия») и «третий, истинный путь, когда чудесное не разрушается и не остается в своей собственной сфере, но приводится в соприкосновение с нашим внутренним миром» [21, 107].
Этот третий тип фантастического представлен, по мнению Ю. В. Манна, в рассказе «Песочный человек» Гофмана, в котором важную роль играет отношение автора к фантастическому:
…сообщаемое им о фантастическом нарочито неопределенно. Собственно прямого вмешательства фантастики в сюжет в сообщении повествователя нет. Он нигде не подтверждает странных видений Натанаэля. Но нигде и не опровергает их, как это делает Клара [21, 108].
В рассказе проявляются различные принципы выражения фантастического:
Фантастика в прямом ее значении в начале рассказа (письма Натанаэля) снимается затем таким типом фантастики, которую правильнее назвать завуалированной …» [21, 108–109].
«Завуалированную» (или «двойственную») фантастику автор вводит в текст в таких формах, как «фантастическая предыстория», «слухи и предположения», «сон» [21, 109].
В поэтике Гоголя Ю. В. Манн выделяет «прямую», «завуалированную» и «нефантастическую» фантастику.
Первый тип представлен в произведениях о прошлом:
Высшие силы открыто вмешиваются в сюжет. <…> Фантастические события сообщаются или автором-повествователем, или персонажем, выступающим основным повествователем (но иногда с опорой на легенду или на свидетельства предков — «очевидцев»: деда, «тетки моего деда» и т. д.) [21, 112].
В произведениях о современности происходит «вытеснение прямой фантастики завуалированной или даже формами словесно-образной фантастики», возникает «принцип параллелизма фантастического и реального», который Гоголь последовательно развивает в таких произведениях, как «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Нос» [21, 114].
В нефантастических произведениях, таких как «Старосветские помещики», «Коляска», «Ревизор» и «Мертвые души», формируется «нефантастическая фантастика»: «Фантастика ушла в быт, в вещи, в поведение людей и в их способ мыслить и говорить» [21, 124].
Концепция Ю. В. Манна, разработанная им типология и поэтика фантастического у Гоголя оказали значительное влияние на изучение истории и теории русской фантастики в целом.
Почти одновременно со статьей Ю. В. Манна вышла в свет монография Ц. Тодорова «Введение в фантастическую литературу» (1970), которая приобрела широкую известность среди исследователей.
Рассматривая фантастику как жанр, Ц. Тодоров отмечает, что фантастическое существует до тех пор, пока сохраняется «двусмысленность», «неуверенность» в объяснении происходящего события:
…как только мы выбираем тот или иной ответ, мы покидаем сферу фантастического и вступаем в пределы соседнего жанра — жанра необычного или жанра чудесного. Фантастическое — это колебание, испытываемое человеком, которому знакомы лишь законы природы, когда он наблюдает явление, кажущееся сверхъестественным [41, 25].
Несмотря на популярность, концепция Ц. Тодорова неоднократно становилась предметом критики и полемики. Так, например, Ю. М. Ханютин отмечает, что определение фантастического у Ц. Тодорова «исключает из фантастики всю фантастику научную, где, как правило, нет места двусмысленности…» [44, 191–192]. Соглашаясь с мнением Ю. М. Ханютина, Е. М. Неёлов видел недостаток концепции Ц. Тодорова и его последователей в том, что при определении фантастического
«не учитывается волшебно-сказочная специфика», «речь идет о психологическом восприятии» завуалированной фантастики [26, 46]. Анализируя концепцию Ц. Тодорова, И. Смирнов указывает на то, что понимание фантастического Ц. Тодоровым может быть подтверждено лишь произведениями литературы романтизма и раннего реализма, но не подтверждается произведениями «современной научной фантастики» [37, 20]. И. Смирнов иронично спрашивает: «…неужели колебания, о которых ведет речь Тодоров, всегда присущи и рассказчику в современной научной фантастике с конституирующей ее полной рационализацией невероятного, чудесного?» [37, 20].
Оригинальную концепцию фантастического предложил Е. М. Неёлов в процессе изучения фольклорной и литературной сказки, литературной и научной фантастики. Исследователь убежден, что фантастическое в научной фантастике «повторяет, в сущности, характер и структуру волшебно-сказочной фантастики и этим отличается от фантастики общелитературной» [26, 50]. По его мнению, поэтика научной фантастики парадоксальна: «Дух науки укрепляет установку на вымысел, предполагает отсутствие буквальной веры в изображаемые события и одновременно же создает иллюзию достоверности» [26, 49]. Структура фантастического, по его мнению, «образуется однозначным, четким противопоставлением точек зрения “изнутри” и “снаружи”», наличием чудесных предметов и явлений, научных гипотез и фантастической техники, которые выражают атмосферу и логику чудесного (сказочного, фантастического) мира [26, 48–50]. Наиболее ярко волшебно-сказочные корни научной фантастики обнаруживаются в изображении человека, пространства и времени. В определенном смысле научную фантастику можно считать современной волшебной сказкой.
С 1970-х годов начинается другая история отечественной фантастики и ее изучения2. Публикация в СССР романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966–1967) открыла двери литературной фантастике; преодолевая сопротивление, она стала завоевывать позиции в советской литературе. «Золушка», как вслед за А. Беляевым называл научную фантастику Е. М. Неёлов3, постепенно превращалась если не
в сказочную невесту, то в деловую предприимчивую издательницу, фантастика перестала нуждаться в оправдании.
Примечания
∗ Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX веков» (№ 34.1126).
-
1 В рецензии на повесть «Упырь» В. Г. Белинский отмечал развлекательную и бессодержательную игру воображения ее автора и упрекал его: «“Упырь” — произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это?» [5, 467].
-
2 Обзор теоретических трактовок фантастического как категории поэтики см.: [36].
-
3 Подробнее о позиции автора в споре об «упадке» научной фантастики см.: [25, 3].
FROM THE HISTORY OF RESEARCH
ON THE FANTASTIKA
IN THE RUSSIAN CRITICISM AND
Список литературы Из истории изучения фантастики в русской критике и литературоведении 1820-1970-х годов
- Анненский И. Ф. О формах фантастического у Гоголя//Анненский И. Ф. Книги отражений. -М.: Наука, 1979. -С. 207-216. (Серия «Литературные памятники»).
- Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. -М.: Индрик, 1994. -Т. 1. -800 с.
- Ахматова А. А. Комментарий. «Сказка о золотом петушке» и «Царь увидел пред собой..»//Ахматова А. А. Собрание сочинений: в 6 т. -М.: Эллис Лак, 2002. -Т. 6: Данте. Пушкинские штудии. Лермонтов. Из дневников. -C. 44-56.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. -М.: Худож. лит., 1975. -504 с.
- Белинский В. Г. Упырь. Сочинение Краснорогского//Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. -М.: Худож. лит., 1979. -Т. 4: Статьи, рецензии и заметки. Март 1841 -март 1842. -С. 466-467.
- Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года//Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. -М.: Худож. лит., 1982. -Т. 8: Статьи, рецензии и заметки. Сентябрь 1845 -март 1848. -С. 182-221.
- Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). К проблеме русско-немецких литературных связей. -Воронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 1977. -206 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 18 т./под ред. проф. В. Н. Захарова. -М.: Воскресенье, 2004. -Т. 5. -740 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 18 т./под ред. проф. В. Н. Захарова. -М.: Воскресенье, 2004. -Т. 15. -Кн. 2. -528 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 18 т./под ред. проф. В. Н. Захарова. -М.: Воскресенье, 2004. -Т. 16. -Кн. 2. -560 с.
- Захаров В. Н. Концепция фантастического в эстетике Ф. М. Достоевского//Художественный образ и историческое сознание: межвуз. сб./отв. ред. И. П. Лупанова. -Петрозаводск: ПГУ, 1974. -С. 98-125.
- Захаров В. Н. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф. М. Достоевского: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Петрозаводск, 1975. -25 с.
- Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. -Петрозаводск: ПГУ, 1978. -110 с.
- Захаров В. Н. Фантастическое как категория поэтики романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот»//Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. -Петрозаводск: ПГУ, 1978. -С. 58-89.
- Захаров В. Н. Фантастическое как категория поэтики Достоевского семидесятых годов//Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. -Петрозаводск: ПГУ, 1981. -С. 41-54.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. -208 с.
- Захаров В. Н. Условность и фантастика: Взаимоотношение категорий//Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. -Петрозаводск: ПГУ, 1986. -С. 47-54.
- Захаров В. Н. Фантастическое//Достоевский: эстетика и поэтика: слов.-справ./науч. ред. Г. К. Щенников. -Челябинск: Металл, 1997. -С. 53-56.
- Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. -184 с.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины ХIХ века. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карел. АССР, 1959. -503 с.
- Манн Ю. Фантастическое и реальное у Гоголя//Вопросы литературы. -1969. -№ 9. -С. 106-125.
- Манн Ю. Поэтика Гоголя. -М.: Худож. лит., 1978. -398 с.
- Неёлов Е. Современная литературная сказка и научная фантастика: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Петрозаводск, 1973. -18 с.
- Неёлов Е. М. О категориях волшебного и фантастического в современной литературной сказке//Художественный образ и историческое сознание: межвуз. сб. -Петрозаводск: ПГУ, 1974. -С. 39-52.
- Неёлов Е. М. О белом платье Золушки и шкуре носорога//Литературная газета. -1985. -13 ноября.
- Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. -198 с.
- Неёлов Е. М. Сказка, фантастика, современность. -Петрозаводск: Карелия, 1987. -124 с.
- Неёлов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. -Петрозаводск: ПГУ, 1989. -88 с.
- Неёлов Е. М. Фольклорный интертекст русской фантастики: учебное пособие по спецкурсу. -Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. -124 с.
- Неёлов Е. М. Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. -№ 1 (91). -Июнь. -С. 100-105. (Серия: Общественные и гуманитарные науки).
- Неёлов Е. М., Струкова А. Е. Русская фантастика: нерешенные проблемы. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -71 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1946. -340 с.
- Пропп В. Я. Русская сказка. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. -336 с.
- Путилов Б. Н. Экскурсы в теорию и историю славянского эпоса. -СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. -288 с.
- Скотт В. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана//Скотт В. Собрание сочинений: в 20 т. -М.; Л.: Худож. лит., 1965. -Т. 20. -С. 602-652.
- Скуднякова Е. В. Фантастическое как категория поэтики литературного произведения: разнообразие трактовок//Вестник Московского государственного гуманитарно-экономического университета. -2012. -№ 3 (11). -С. 63-71.
- Смирнов И. П. Фантастическое как (сверх)жанр//Новый филологический вестник. -2007. -№ 2 (5). -С. 19-33.
- Соколов Ю. Сказка//Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т./под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розова, В. Чешихина-Ветринского. -М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. -С. 801-807.
- Соловьевь В. С. «Оттуда». Рассказы Сергея Норманскаго (1895)//Собранiе сочиненiй Владимира Сергѣевича Соловьева. -СПб.: Изданiе товарищества «Общественная польза», 1905. -Т. 6: 1886-1896. -С. 516-519.
- Соловьев В. С. Предисловие //Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. -М.: Искусство, 1991. -С. 608-613.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. -М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. -144 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. -М.; Л.: Госиздат, 1928. -240 с.
- //Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. -Л.: Наука, 1976. -Т. 19: Статьи и заметки 1861. -С. 281-288.
- Ханютин Ю. М. Кинофантастика: возможности жанра и практика кинопроизводства//Жанры кино. -М.: Искусство, 1979. -C. 189-204.
- Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике//Вопросы литературы. -1977. -№ 1. -С. 229-248.