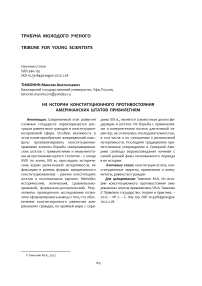Из истории конституционного противостояния Американских Штатов привилегиям
Автор: Тимонин Максим Анатольевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Трибуна молодого ученого
Статья в выпуске: 2 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
Современный этап развития сложных государств характеризуется растущим равенством граждан в конституционно-правовой сфере. Особую значимость в этом плане приобретает американский опыт. Цель: проанализировать конституционно-правовые аспекты борьбы североамериканских штатов с привилегиями и иммунитетами на протяжении целого столетия - с конца XVIII по конец XIX в.; проследить исторические корни религиозной нетерпимости, их фиксацию в ранних формах американского конституционализма - ранних конституциях штатов и колониальных хартиях. Методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, формально-догматический. Результаты: проведенное исследование позволило сформулировать вывод о том, что обеспечение конституционного равенства американских граждан, по крайней мере с середины XIX в., является совместным делом федерации и штатов. Их борьба с привилегиями и иммунитетами носила длительный характер, не отличалась последовательностью, в том числе и по отношению к религиозной нетерпимости. Последняя традиционно препятствовала утверждению в Северной Америке свободы вероисповедания начиная с самой ранней фазы колониального периода в ее истории.
Конституция штата, конституционные запреты, привилегии и иммунитеты, равенство граждан
Короткий адрес: https://sciup.org/142235583
IDR: 142235583 | УДК: 340.155 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.2.18
Текст научной статьи Из истории конституционного противостояния Американских Штатов привилегиям
Введение. Конституционное противо‐ стояние привилегиям и иммунитетам в США имеет довольно долгую историю. В данной статье предпринята попытка исследовать конституционно‐правовые аспекты борьбы североамериканских штатов с привилегиями и иммунитетами на протяжении целого сто‐ летия – с конца XVIII по конец XIX в.; просле‐ дить исторические корни религиозной не‐ терпимости, их фиксацию в ранних формах американского конституционализма – ран‐ них конституциях штатов и колониальных хартиях.
Некоторые самые ранние конституции содержали положения, направленные на за‐ прещение исключительных прав, аналогич‐ ных королевским привилегиям. Например, ст. 4 Декларации прав Вирджинии 1776 г. гла‐ сила: «Ни один человек или группа людей не имеет права на исключительное или отдель‐ ное вознаграждение или привилегии от со‐ общества, кроме как с учетом обществен‐ federal and state endeavor since at least the mid‐ 19th century. Their struggle against privileges and immunities was long and inconsistent, including in relation to religious intolerance. The latter tra‐ ditionally prevented the establishment of reli‐ gious freedom in North America since the earliest phase of the colonial period in its history.
ных заслуг»1. Аналогично данный запрет был сформулирован в Конституции Массачусетса 1780 г. В ст. 6 Декларации прав этого штата было установлено: «Ни один человек, ни корпорация, ни объединение людей не могут иметь другого права на получение преиму‐ ществ или особых и исключительных приви‐ легий, отличных от тех, которые доступны всему сообществу, если только они не яви‐ лись признанием особых заслуг перед ним»2.
Борьба североамериканских штатов с привилегиями и иммунитетами (конец XVIII – конец XIX в.): конституционно‐право‐ вые аспекты. В первые годы существования американской нации некоторые суды штатов объединили конституционные запреты с принципами естественного права. В качестве явно противоречащих первым принципам гражданской свободы и естественной спра‐ ведливости, а также духу Конституции США и законов они стали трактовать такие установ‐ ления, когда каждый гражданин мог пользо‐ ваться привилегиями и преимуществами, в которых отказывали всем другим при схо‐ жих обстоятельствах. Аналогично они рас‐ сматривали установления о том, что любой гражданин должен понести лишения, ущерб, быть подвергнут искам или действиям, от которых все другие при подобных обстоя‐ тельствах освобождаются.
С конституционными положениями шта‐ тов, запрещающими неравные привилегии и иммунитеты, тесно связаны конституционные запреты на принятие специальных и местных законов. Многие из них были впервые приняты на волне популистского движения середины 1800‐х годов. Как отметил выдающийся исто‐ рик‐правовед Д. Херст, «постоянной темой ограничений, введенных в конституции штатов после 1840‐х годов, было желание обуздать особые привилегии» [1, p. 241].
Положения, запрещающие принимать специальные или местные законы, часто со‐ державшиеся в конституциях штатов, были направлены на противодействие созданию для отдельных групп или местностей особо благоприятного режима. Первоначально эти положения были продолжением той тенден‐ ции, которая начиная с 1850‐х годов была направлена на ограничение законодательной власти. Конституционные запреты на специ‐ альные и местные законы были вызваны рас‐ тущим недоверием общественности к зако‐ нодательным органам, их восприимчиво‐ стью к чрезмерному влиянию со стороны групп с особыми интересами.
Поскольку законодательные органы шта‐ тов все чаще оказывались под влиянием крупного бизнеса, в частности владельцев железных дорог и банков, в конституции штатов были внесены поправки, ограничи‐ вающие законодательную власть. Разнооб‐ разные конституционные механизмы были приняты для ограничения законодательной власти, и в первую очередь это конституци‐ онные поправки, запрещающие специальные и местные законы. В некоторых случаях эти поправки содержали подробные описания с указанием конкретных тем, которые не мог‐ ли быть рассмотрены в рамках специального законодательства. Как правило, список за‐ вершался общим запретом: «Во всех других случаях, когда может быть применен общий закон, никакой специальный закон не дол‐ жен быть принят»1. Антипатия к особым при‐ вилегиям также отражена в тех конституци‐ онных положениях штатов, которые гаран‐ тируют право на защиту при возмещении вреда или обеспечивают доступ к судам для обеспечения возмещения вреда. Эти поло‐ жения восходят к Великой хартии вольно‐ стей, которая, чтобы противодействовать практике судов короля Иоанна по продаже ордеров за самую высокую цену, содержала ст. 40, гласящую: «Никому мы не будем про‐ давать права и справедливости, никому не будем отказывать в них или замедлять их»2. Как и Великая хартия вольностей, конститу‐ ции штатов были направлены на то, чтобы лишить суды особого отношения к привиле‐ гированным субъектам.
Конституционные предписания относи‐ тельно специальных и местных законов, по аналогии с запретами на исключительные привилегии и иммунитеты, основаны на принципе, согласно которому правительство не может предоставлять кому‐либо особые привилегии или исключительные права и ус‐ танавливать кому‐либо особые ограничения. По этому принципу закон должен быть бес‐ пристрастным как по своему содержанию, так и по своему применению. Любые полити‐ ческие предпочтения осуждаются. Запреща‐ ется дискриминация в отношении отдельных лиц или групп лиц. Ни власть, ни крупный бизнес, ни кто‐либо еще не имеют права на режим особого благоприятствования со стороны правительства. Принцип равенства запрещает исключения или особый статус в соответствии с законом. Это означает, что не только все равны перед законом или имеют равный статус, но и то, что все имеют одина‐ ковое право на результаты государственного управления. Поэтому неудивительно, что конституционное право штатов проявляет сильное отвращение к созданным государ‐ ством монополиям.
Из пятидесяти конституций штатов наи‐ большее осуждение монополий демонстри‐ рует, пожалуй, только Конституция Северной Каролины. В Декларации прав, включенной в состав этой Конституции, установлено, что «бессрочность и монополии противоречат гению свободного государства и не допус‐ каются». Кроме того, в ней имеется прямой запрет на «любые наследственные возна‐ граждения, привилегии или почести»1. Кон‐ ституции других штатов также содержат по‐ ложения, которые запрещают специальные права. Хотя они и менее явно направлены против монополий, тем не менее предназна‐ чены для их запрета. Запрещая специальные права, конституционное право штатов тре‐ бует, чтобы законодательство отвечало об‐ щественным интересам. Другими словами, оно должно быть направлено на благо об‐ щественности, а не создано для групп с осо‐ быми интересами. Как выразился американ‐ ский профессор права Л. Фридмэн, «законо‐ дательные органы должны были работать на общественные интересы; они не должны бы‐ ли принимать узкие, эгоистичные законы или выступать в роли инструментов для владель‐ цев железных дорог и банков» [2, p. 333].
Таким образом, конституционные запре‐ ты специальных прав коренятся в философии гражданского республиканизма, согласно ко‐ торой действия правительства должны про‐ двигать общественные цели, а не частные или особые интересы.
Представление о том, что правительство существует, чтобы служить обществу, также отражено в конституциях штатов, которые требуют, чтобы государственные средства использовались только для общественных целей. Например, Конституция Иллинойса гласит: «Генеральная Ассамблея не должна выделять денежные средства из казначейст‐ ва в целях обеспечения любого частного ин‐ тереса»2. В некоторых штатах, несмотря на отсутствие каких‐либо явно выраженных конституционных предписаний, суды ввели в практику «доктрину общественных целей».
В штате Висконсин данная доктрина яв‐ ляется устоявшимся конституционным прин‐ ципом, хотя она не упоминается ни в одной из статей его Конституции. В ст. 7 Конститу‐ ции Вермонта говорится: «Это правительст‐ во учреждается или должно быть учреждено для общего блага, защиты и безопасности народа, нации или сообщества, а не для осо‐ бого вознаграждения или выгоды какого‐ либо отдельного лица, семьи или группы лиц, которые являются частью только этого со‐ общества»3. Та же мысль еще раньше была выражена в Конституции Род‐Айленда: «Все свободные правительства созданы для за‐ щиты, безопасности и счастья людей. По‐ этому все законы должны приниматься во благо всего общества; и бремя государства должно быть справедливо распределено между его гражданами»1 . Таким образом, принцип, согласно которому законодатель‐ ство должно быть направлено на общест‐ венные, а не на частные цели, глубоко уко‐ ренился в конституциях штатов.
В более поздние времена из конституци‐ онных положений штатов, которые запре‐ щают специальное законодательство или привилегии, сформировалась особая док‐ трина. Эта доктрина основана на федераль‐ ных принципах, используемых для толкова‐ ния положения о равной защите, которое содержится в федеральной Конституции. Фактически некоторые верховные суды шта‐ тов весьма откровенны в отношении приня‐ тия федерального подхода и прямо прирав‐ нивают конституционные положения своих штатов, запрещающие специальное законо‐ дательство или неравные права, к федераль‐ ному законодательству о равной защите гражданских прав.
В условиях реального федерализма ряд штатов реализовали свои полномочия, что‐ бы создать концепцию равенства, которая выходит за рамки федеральной модели рав‐ ной защиты. Конституционные конструкции гражданского равноправия, созданные в от‐ дельных штатах, как верно подметил В.И. Ла‐ фитский, ныне не только основываются на федеральной модели, но меняют ее и рас‐ ширяют на новые области, выходящие за рамки равной защиты на федеральном уров‐ не [3, с. 229]. Таким образом, проблема гра‐ жданского равноправия не относится к сфе‐ ре исключительной федеральной компетен‐ ции, ибо она решается совместными уси‐ лиями федерации и штатов.
Другое дело, что борьба штатов за ут‐ верждение гражданского равноправия в стране далеко не всегда отличалась после‐ довательностью. Некоторые из причин, пре‐ допределивших столь своеобразное разви‐ тие данного процесса, восходят к самому началу колониального периода в истории Северной Америки. Специфика английской колонизации данного континента состояла в том, что даже на первых порах она носила строго однородный этноконфессиональный характер. Стремясь избежать в своих заоке‐ анских владениях таких же острых, почти повсеместно происходивших во многих ев‐ ропейских странах межрелигиозных кон‐ фликтов, английское королевское правите‐ льство прилагало все усилия, чтобы в Аме‐ рику переселялись только англосаксы‐про‐ тестанты. Правда, Д. Лутц и Д. Уоррен настаи‐ вают на более широком составе религиозной эмиграции в Америку, включая в число тех, кто бежал в «английские колонии, спасаясь от репрессий или религиозных преследований на своей родине», католиков, квакеров, лю‐ теран, гугенотов, моравских братьев, менно‐ нитов и пиетистов [4, p. 3]. Думается, что в данном случае речь идет о поздних этапах английской колонизации Америки, когда собственно англосаксонское протестантское ядро в самых ранних колониях Англии было уже сформировано.
Но из этого правила могли быть исклю‐ чения, лишь подтверждающие сложившуюся устойчивую традицию, в соответствии с ко‐ торой даже европейцам, принадлежащим к иным, нежели англичане, конфессиям, дос‐ туп в английские колонии был крайне огра‐ ничен, а нередко и полностью запрещен. В результате такой сугубо избирательной политики население английских колоний в массе своей состояло из этнических англи‐ чан‐протестантов, которые на протяжении длительного времени явно злоупотребляли своими правами не только по отношению к американским индейцам, но и немногочис‐ ленным католикам, иудеям, не говоря о чер‐ нокожих представителях африканского кон‐ тинента, обращенных ими в рабов.
На Юге Америки, том самом Юге, кото‐ рый привычно ассоциируется с неравнопра‐ вием белых плантаторов и чернокожих ра‐ бов, еще в колониальный период большое распространение получило англиканство – своего рода сплав протестантизма с руди‐ ментами католицизма. Самой первой колони‐ ей, основанной англиканами, по праву счита‐ ется Вирджиния, в первой же колониальной хартии которой данный факт был зафиксиро‐ ван юридически. Здесь подчеркивалась одна из главных целей основателей данной коло‐ нии, состоявшая в «распространении христи‐ анской религии среди таких людей, которые все еще живут во тьме и жалком неведении об истинном знании и поклонении Богу». Вы‐ давая 10 апреля 1606 г. данную хартию своим единоверцам, английский король выразил надежду на то, что они «со временем могут привести иноверцев и дикарей, живущих в тех краях, к гуманной цивилизации»1.
На деле колонисты не только Вирджинии, но и других колоний, основанных англичана‐ ми, гуманизму и цивилизации предпочли реализацию иных ценностей, которая обер‐ нулась для коренных жителей Америки то‐ тальным разрушением их сообществ и, как следствие, массовым вымиранием многих индейских племен. Такое отношение к ин‐ дейцам, родственное геноциду, практикова‐ лось и англичанами, проживавшими в коло‐ ниях американского Севера. Большинство из них было основано теми английскими под‐ данными, которые, находясь еще на своей островной родине, отрицали любые ком‐ промиссы протестантской веры с католи‐ цизмом. Столь глубокие расхождения с офи‐ циальной религией Английского Королевст‐ ва грозили сепаратистам, пуританам, бапти‐ стам и другим сектантам многими лишения‐ ми и бедствиями. Поэтому они стали целыми религиозными общинами переселяться за океан.
Наиболее влиятельная такая колония бы‐ ла основана пуританами в 1630 г. и получила название Массачусетс. Религиозно‐полити‐ ческим центром ее стал Бостон. Властвую‐ щая элита Массачусетса с таким же ожесто‐ чением стала преследовать инакомыслящих, с каким пуритане столкнулись у себя на ро‐ дине. Не желая становиться жертвами тео‐ кратического режима, утвердившегося в Бос‐ тоне, многие протестанты стали покидать территорию этой колонии и создавать свои собственные небольшие поселения за ее пре‐ делами. Так на политической карте Северной Америки появились новые колонии: Коннек‐ тикут, Род‐Айленд, Нью‐Гэмпшир и некото‐ рые другие.
Зимой 1638–1639 гг. руководство трех городков – Хартфорда, Виндзора и Уэзерс‐ филда – во главе с Т. Хукером разработало правовую основу объединения этих поселе‐ ний в единую колонию, получившую извест‐ ность как «Основные уставы» Коннектикута. В отличие от пуританской колонии Массачу‐ сетского залива, где вплоть до 1664 г. права гражданина (фримена) признавались только за членами церковной общины, в Коннекти‐ куте любой житель колонии, который имел право голосовать в одном из городов, при‐ нимал участие в выборах магистратов. По‐ скольку право участвовать в гражданских делах было отделено от членства в церкви, Коннектикуту удалось сделать первые шаги на пути к полной «секуляризации принципов социального ковенанта» [4, p. 21].
Но не только Коннектикут самим фактом своего существования бросал вызов пури‐ танским порядкам колонии Массачусетского залива. В Новую Англию прибывали все но‐ вые протестантские секты: антиномисты, си‐ керы, квакеры, баптисты, и все они выража‐ ли крайнюю степень недовольства по поводу отсутствия религиозной терпимости в пури‐ танской колонии. Одним из первых, кто под‐ верг публичной критике религиозно‐полити‐ ческие порядки, царившие в колонии Масса‐ чусетского залива, стал Р. Уильямс. Однако вскоре ему пришлось разделить участь всех тех, кто осмелился противостоять духовной монополии руководства этой колонии, - подобно другим инакомыслящим он подвергся преследованиям властей и был вынужден бежать к индейцам, с которыми ему удалось договориться о создании новой колонии. Так было положено начало Род-Айленду, «показавшему всему миру первый пример полной религиозной свободы и полного отделения церкви от государства» [5, с. 31]. Столь возвышенная оценка результатов деятельности Р. Уильямса, принадлежащая П.Г. Мижуеву, сегодня должна быть скорректирована в том плане, что взгляды американского «апостола свободы» во многом опередили свое время. В глазах его современников они выглядели настолько радикальными, что не могли быть восприняты его современниками и реализо‐ ваны всеми английскими колониями. Род-Айленд на протяжении почти двух веков был вынужден оставаться одиноким примером практически полной религиозной свободы.
Заслуживает внимания и религиозно‐ политический опыт Мэриленда, Пенсильвании и некоторых других колоний. Ситуация в Мэриленде интересна тем, что владельцем этой колонии, С. Калвертом, она еще в Англии была задумана как прибежище религиозной веро‐ терпимости, но не для всех конфессий, а только для единоверцев‐католиков и протестан‐ тов. Назначив губернатором Мэриленда собственного брата, Л. Калверта, старший из Калвертов выдал ему инструкцию, пункт первой которой гласил: «Губернатор и уполномоченные во время их путешествия в Мэриленд должны быть очень осторожными, чтобы сохранить единство и мир среди всех пассажи‐ ров на борту судна, не допускать скандалов или каких-либо оскорблений, которые могут быть нанесены кому-либо из протестантов» [6, р. 16-17]. Поскольку мало кто из английских католиков решался совершать рискованные путешествия к берегам Америки, с момента основания первого их поселения - с 27 марта 1634 г., верхушка колонии могла рассчитывать только на постоянный приток протестантов, которых можно было привлечь сюда, практи куя здесь изначальную веротерпимость. Впрочем, не стоит забывать о том, что политическая и духовная власть в Мэриленде принад‐ лежала католической верхушке только на пер‐ вых порах, в дальнейшем вся власть в этой колонии перешла в руки лидеров разросшейся англиканской общины, которые обрушили на католиков целую серию репрессивных зако‐ нов. Католики Мэриленда, оставаясь в меньшинстве, были вынуждены считаться с тем, что англиканская церковь здесь, как и в четырех других южных колониях, рассматривала себя в качестве государственной церкви, оставляя представителям других конфессий возмож‐ ность претерпевать все негативные последст‐ вия, связанные с ее привилегированным статусом [7, р. 356-388].
4 марта 1681 г. английскому аристократу квакеру У. Пенну была выдана королевская хартия, но только 27 октября 1682 г. ему удалось высадиться в Америке и приступить к ос‐ воению своих обширных владений, которым первоначально отводилась роль приюта для презираемых всеми и гонимых повсюду ква‐ керов. Именно они-то и оказались первыми эмигрантами в его любимую Пенсильванию, названную им в честь своего отца. Но вскоре, привлеченные принципом неограниченной веротерпимости, провозглашенным самим У. Пенном, сюда устремились ревнители всех вероисповеданий, и даже атеисты. Стоит ли удивляться тому, что спустя некоторое время «квакеры, которых Пенн рассматривал как будущих граждан своей колонии, оказались в меньшинстве» [8, р. 147]. Однако данное обстоятельство не оказало существенного влия‐ ния на уже сформировавшееся общественно‐ политическое устройство данной колонии. Более того, 28 октября 1701 г., во время своего второго и последнего визита в колонию, У. Пенн подписал Хартию привилегий, официально установив стабильные рамки правления, которые для своего времени были весьма ли‐ беральными. В этой Хартии им была вновь подтверждена неограниченная свобода веро‐ терпимости всем лицам, проживающим на территории данной колонии и желающим «спокойно жить при гражданском правлении», которые «исповедуют и признают единого всемогущего Бога». Монотеисты «ни в коем случае не должны подвергаться преследова‐ ниям или осуждению» за свои религиозные убеждения или обычаи. Их «не должны были принуждать посещать или поддерживать ка‐ кое‐либо религиозное поклонение, место или служение вопреки их мнению или совершать какие‐либо действия или страдать от любых других действий или поступков, противореча‐ щих их религиозным убеждениям». Весьма примечательно и то, что «все лица, которые также исповедуют веру в Иисуса Христа, спа‐ сителя мира, должны быть способны служить этому правительству в любом качестве, как законодательно, так и исполнительно»1. Таким образом, право занимать любые должности гарантировалось только христианам.
После победы патриотов в войне за неза‐ висимость в конституционно‐правовом раз‐ витии Северной Америки произошли важ‐ нейшие изменения: постепенно был осуще‐ ствлен переход к федерации и на федераль‐ ном уровне были приняты Конституция США 1787 г. и Билль о правах 1789 г. Их ратифика‐ ция придала новый импульс процессам отде‐ ления церкви от государства и утверждения свободы вероисповедания, но окончательно покончить с дискриминацией по религиоз‐ ному признаку на уровне отдельных штатов не удалось. Так, ст. VI Конституции Северной Каролины содержала прямой запрет зани‐ мать официальную должность не только всем лицам, которые «должны быть осужде‐ ны за государственную измену, лжесвиде‐ тельство или за любое другое гнусное пре‐ ступление, став гражданами США», но и в первую очередь той категории лиц, тем лю‐ дям, «которые отрицают существование всемогущего Бога». Согласно же ст. VIII Кон‐ ституции Теннесси «ни одно лицо, отрицаю‐ щее бытие Бога или будущее состояние воз‐ даяния и наказания, не должно занимать ни‐ каких должностей в гражданском департа‐ менте этого штата»2. Той же идеей руково‐ дствовались составители Конституции Мэ‐ риленда 1851 г., которая открывалась Декла‐ рацией этого штата. Статья 34 Декларации не содержала никаких других ограничений для лиц, принимаемых на любую должность, «связанную с доверием или прибылью», кро‐ ме «присяги». Конечно же, она предполагала «декларацию о жизни в христианской рели‐ гии». Такого рода декларация требовалась даже от кандидата‐иудея, который, прися‐ гая, должен был торжественно провозгла‐ сить «свою веру в будущее, посмертное со‐ стояние, когда каждому воздастся по его заслугам»3. Присяга фигурировала и в ранней Конституции штата Нью‐Йорк. Статья VIII этой Конституции возлагала обязанность на каждого избирателя принести присягу в том случае, «если того потребует уполномочен‐ ный по выборам или любой из инспекторов». В противном случае «он не будет допущен к голосованию». Для квакеров такое исключе‐ ние становилось строго обязательным пра‐ вилом – присягая, они должны были «под‐ твердить свою верность штату»4.
Как видно, отдельные штаты даже на конституционном уровне сохраняли свою приверженность консервативным установ‐ кам, сложившимся еще в колониальный период и заметно сдерживавшим прогресс равноправия по всей стране. Правда, мало кто из американских ученых согласился бы с таким выводом. Напротив, многие из них, рассматривая аспекты колониального насле‐ дия, склонны особо выделять «стремление к равенству возможностей». Примером может служить творчество А. Невинса и Г. Ком-маджера, с точки зрения которых последующая реализация этого стремления привела к «целому ряду перемен в социальной структуре Америки, ломавших самые различные социальные привилегии» [9, с. 63]. Было ли присуще данное стремление всем без ис‐ ключения первопоселенцам Джеймстауна или же Массачусетса, стоит ли с ним жестко связывать борьбу с привилегиями, наметившуюся уже в колониальный период, различать ли по этому критерию разные типы об‐ щества, будь то европейское, русское или же американское, - вопросы, решение которых настоятельно требует проведения спе‐ циальных крупномасштабных сравнительно‐ исторических исследований.
Здесь же мы должны отметить иное: препятствия на пути утверждения гражданского равноправия проявили себя не только в да‐ леком колониальном прошлом Северной Америки и обнаруживают себя не только в конституционно-правовой сфере. В качестве единственного анклава, в котором многие компоненты романо‐германского права ус‐ тойчиво и долговременно сохраняются до сих пор, обычно рассматривается Луизиана. Действительно, по словам Л. Фридмэна, еще «во время покупки Луизианы она представляла собой загадочную, сбивающую с толку мешанину французского и испанского зако‐ нодательства, смесь кодексов, обычаев и доктрин разных эпох». Но такая же картина наблюдается им же самим и в Техасе, который «сохранил систему общей собственности супругов» и «разделяет эти "пережитки" с Луизианой и рядом штатов, образованных на территории Мексики, в частности с Калифорнией. Сам факт того, что эти институты продолжали существовать, несмотря на огромное давление общего права, указывает на то, что они были прочно вшиты в социальную ткань» [2, р. 171]. Мало того что юридические рудименты романо‐германской пра‐ вовой семьи, сохранившиеся в этих штатах, усложняли и без того пеструю картину пра‐ вового плюрализма в США, они явно способствовали сохранению приниженного право‐ вого положения женщин в данных штатах.
Об этом предельно ясно поведал все тот же Л. Фридмэн в русскоязычном издании другой своей книги: «В штате с такой системой собственности, что бы ни заработал муж или какую бы собственность он ни приобрел, автоматически ее половина оказывается принадлежащей его жене и наоборот. Другими словами, в этих штатах семейная пара рассматривается, вообще говоря, как единое и неделимое "сообщество", до тех пор пока семейная пара не распалась. В случае распада семейной пары составляющие со‐ общества не остаются равноправными вла‐ дельцами собственности сообщества. Муж "выходит сухим из воды": он имеет исключительное право управления и контроля над собственностью сообщества» [10, с. 40].
Борьба женщин за равноправие с мужчи‐ нами, борьба «цветного» населения против расовой сегрегации в США, вне всякого сомнения, заслуживают специального анализа. Здесь же ограничимся констатацией того, что предоставление подавляющего преиму‐ щества тем и другим в перспективе может привести и на практике приводит не только к позитивным результатам. Но это уже тема другого исследования.
Заключение. Весь комплекс проблем, так или иначе связанных с обеспечением граж‐ данского равноправия американцев, в сознании многих исследователей обычно свя‐ зывается с реализацией конституционных прав, зафиксированных в федеральной Конституции США, и, соответственно, с деятельностью федеральных органов США. В настоящем исследовании главное внимание было уделено малоизвестной отечествен‐ ным авторам проблематике, которая имеет самое прямое отношение к противостоянию американских штатов привилегиям, рас‐ смотренному в историческом аспекте. Мо‐ жет показаться, что исторический опыт кон‐ ституционного противостояния субъектов федерации привилегиям обесценивает фе‐ деральную Конституцию США, подрывает ее престиж, авторитет связанных с нею феде‐ ральных органов власти. Но это не так, ибо федеральная Конституция была принята по‐ сле того, как появились конституции штатов. В процессе ее разработки отцы‐основатели США должны были считаться с конституци‐ онными текстами, ранее принятыми отдель‐ ными штатами. Такая ситуация привела к из‐ начальной взаимозависимости федеральной Конституции и конституций штатов. Однако с уверенностью утверждать, что обеспечение конституционного равенства американских граждан становится совместным делом фе‐ дерации и штатов, можно по крайней мере с середины XIX в. Их борьба с привилегиями или иммунитетами носила исторически дли‐ тельный характер, не отличалась последова‐ тельностью, в том числе и по отношению к религиозной нетерпимости. Последняя тра‐ диционно препятствовала утверждению в Северной Америке свободы вероисповеда‐ ния, начиная с самой ранней фазы колони‐ ального периода в ее истории.
Список литературы Из истории конституционного противостояния Американских Штатов привилегиям
- Hurst J.W. The Growth of American Law: The Law Makers /j.W. Hurst. - Clark: The Lawbook exchance, Ltd., 2007. - 502 p. - URL: https://books.google.ru/books?id=fT24smXtCKwC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.
- Friedman L.M. A History of American Law / L.M. Friedman. - 4th ed. - New York: Oxford University Press, 2019. - 828 p. - URL: https://b-ok.global/book/14621549/d18afd.
- Лафитский В.И. Основы конституционного строя США / В.И. Лафитский. - Москва: Норма, 1998. - 272 с.
- Lutz D. A covenanted people: the religious tradition and the origins of American constitutionalism / D. Lutz, J. Warren. - Providence, Rhode Island: John Carter Brown Library, 1987. - 87 p. - URL: https://archive.org/details/covenantedpeople00lutz/page/n7/mode/2up.
- Мижуев П.Г. История великой американской демократии. (С. Амер. соед. штатов) / П.Г. Мижуев. - Санкт-Петербург: Тип. Брокгауз-Ефрон, 1906. - 276 c. - URL: https://www.studmed.ru/mizhuev-p-istoriya-velikoy-amerikanskoy-demokratii_a7ac3c45977.html.
- Hall Cl.C. Narratives of early Maryland, 1633-1684 / Cl.C. Hall. - New York: Charles Scribner's sons, 1910. - 486 p. - URL: https://archive.org/details/narrativesofearl00hall.
- Russell W.T. Maryland; the land of sanctuary. A history of religious toleration in Maryland from the first settlement until the American Revolution / W.T.Russell. - Baltimore: J.H. Furst Company, 1907. - 621 p. - URL: https://archive.org/details/marylandlandofsa0000russ/page/n9/mode/2up.
- Baird R. Religion in the United States of America / R. Baird. - New York: Arno Press & The New York Times, 1969. - URL: https://archive.org/details/religion-in-the-usa.
- Невинс А. История США: от английской колонии до мировой державы / А. Невинс, Г. Коммаджер; пер. с англ. В. Оболенского и Б. Прянишникова. - Нью-Йорк: Телекс, 1991. - 439 с.
- Фридмэн Л. Введение в американское право: пер. с англ. / Л. Фридмэн; под ред. М. Калантаровой. - Москва: Прогресс-Универс, 1992. - 284 с. - URL: https://2lib.org/book/660735/ed59e3?id=660735&secret=ed59e3.