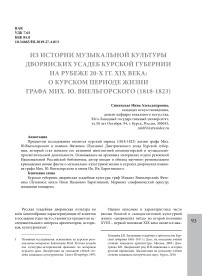Из истории музыкальной культуры дворянских усадеб Курской губернии на рубеже 20-хг г. XIX века: о курском периоде жизни графа Мих.Ю. Виельгорского(1818-1823)
Автор: Синянская Нина Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования является курский период (1818-1823) жизни графа Мих. Ю.Виельгорского в имении Фатеевка (Луизино) Дмитриевского уезда Курской губернии, который стал началом его активной многолетней композиторской и музыкально- просветительской деятельности. Основываясь на архивных материалах отдела рукописей Национальной Российской библиотеки, автор вводит в обиход научного регионального краеведения новые факты о музыкально-культурной жизни в курских дворянских имениях графа Мих. Ю. Виельгорского и князя Ив. Ив. Барятинского.
Курская губерния, дворянская усадебная культура, граф михаил виельгорский, фатеевка (луизино), князь иван иванович барятинской, марьино, симфонический оркестр, домашние концерты
Короткий адрес: https://sciup.org/170173961
IDR: 170173961 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2019.27.4.013
Текст научной статьи Из истории музыкальной культуры дворянских усадеб Курской губернии на рубеже 20-хг г. XIX века: о курском периоде жизни графа Мих.Ю. Виельгорского(1818-1823)
Русская усадебная дворянская культура во всём многообразии характеризующих её аспектов в последние годы часто становится предметом исследовательского интереса архитекторов, историков, культурологов 1 .
Однако описание и характеристика часто весьма богатой и самодостаточной культурной жизни «дворянских гнёзд» во второй половине XVIII – первой половине XIX века является наи-
Холодова Е.В. Загородное усадебное строительство Курской губернии 1861–1917 гг. Дисс. на соискание учёной степени кандидата архитектуры. Москва, 2005.; Дмитриева В.В. Дворянский род И.П.Анненкова в истории русской провинции. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Курск, 2010.
менее изученной и наиболее сложной для реконструкции областью исследования в силу своей особой хрупкости и «нематериальности». Сегодня эту весьма существенную сторону исчезнувшей жизни русского дворянства можно воссоздать лишь с той степенью полноты, которую это позволяют сделать имеющиеся в российских архивохранилищах материалы.
Об исчезающей «атлантиде» русских дво-рян-ско-помещичьих усадеб XIX века свидетельствуют следующие данные: по материалам курских краеведов (каталог памятников истории и культуры Курской области, Курск, 1998) в Курской области в конце ХХ века было каталогизировано око-ло двух тысяч материальных памятников истории и культуры, подавляющая часть которых не сохранилась, а немногие сохранившиеся (около 50) находятся в полуразрушенном состоянии. Однако, это лишь третья часть из существовавших к началу ХХ века шести тысяч загородных дворянских и купеческих усадеб. И лишь о единичных из этих усадеб сегодня в крупнейших российских архивохранилищах (Национальная Российская библиотека в гг. Москве и Санкт-Петербурге) можно найти интересующие нас сведения о некогда протекавшей в них жизни, в которой заметное место занимали культурно-художественные интересы их хозяев.
Такими являются два архива в отделе рукописей НРБ в Москве: архив князей Барятинских из усадьбы Марьино Курской губернии (фонд Б/19) и архив Веневитиновых-Виельгорских (фонд 5-80). Хранящиеся в них материалы позволяют реконструировать культурную жизнь усадьбы князя Ивана Ивановича Барятинского в первые десятилетия ХIX века, а также узнать малоизвестные подробности жизни и деятельности младших современников И.И.Барятинского – графов Михаила и Матвея Виельгорских в период пребывания гр. Михаила Виельгорского в курском имении Луизино (Фатеевка), принадлежавшее второй жене графа Михаила Луизе Карловне Ви-ельгорской (урождённой Бирон).
На рубеже 20-х гг. XIX века в течение пяти лет (1818-1923) в юго-западной части обширной тогда Курской губернии резиденция Марьино князя Ив.Ив.Барятинского в Рыльском уезде и имение Л.К.Виельгорской в Фатеевке в соседнем Дмитриевском уезде становятся замкнутыми и само- достаточными центрами богатой музыкальноконцертной жизни2.
Известно, что с конца 20-х гг. удалившийся от обязанностей дипломатической службы при дворе Александра I стареющий князь Ив.Ив.Ба-рятинский (1767-1825) в своём новом поместье Марьино жил замкнуто и уединённо в кругу своей большой семьи и своих обширных хозяйственных и художественных интересов. Его образ жизни добровольного затворника и меломана лучше всего характеризует фраза князя из его письма к своему управляющему: «… мы для себя хотим жить покойно и приятно, а не для других, да и не для кого» 3 . (Фото 1.).

Фото 1. Современный вид усадьбы Барятинских Марьино. Фото из общедоступных источников.
Напротив, молодой, не достигший и 30 лет, блестяще и разносторонне образованный, чиновник канцелярии внутренних дел граф Михаил Виельгорский оказался в глуши курских лесостепей в связи с достаточно драматическим стечением личных обстоятельств.
Причиной, по которой молодой граф был принуждён отказаться от светской столичной жизни была его тайная и скорая женитьба на родной старшей сестре своей первой жены. Екатерина Карловна Виельгорская (урождённая Бирон) умерла в январе 1816 г. от родов. В апреле того же года граф Мих.Ю.Виельгорский тайно венчается с её старшей сестрой Луизой Карловной Бирон, что, будучи нарушением всех приличий, вызвало осуждение большого света и недовольство двора.
Другой причиной было, по-видимому, чрезмерное увлечение графа идеями масонства. Молодой вельможа, находившийся в центре светской жизни Петербурга, Михаил Виельгорский увлёкся масонской доктриной настолько, что некоторое время (1816-1818) даже был одним из руководителей Великой Провинциальной ложи масонов в Петербурге. Однако, к концу десятилетия отношение императора, вначале благосклонного к увлечениям дворянства, стало меняться. В 1822 г. последовал высочайший указ о запрещении в России масонских лож. Поэтому не удивительно, что в 1818 г. граф Мих. Ю.Виельгорский был отправлен в отставку с предписанием поселиться в деревне. (Фото 2.)

Фото 2. Портрет графа Мих Ю. Виельгорского Фото из общедоступных источников.
Там, лишённый возможности продолжать свою масонскую деятельность, Мих. Ю. Виельгор-ский со страстью предаётся музыке. Он создаёт в своей усадьбе симфонический оркестр, много сочиняет и устраивает домашние концерты, привлекая к участию в них соседей-помещиков.
Автор содержательной и богато документированной монографии о братьях Виельгорских Таисия Щербакова пишет: «Этой русской деревне, затерянной в глуши, суждено было завидное предназначение – жить поразительной для России начала 20-х гг. творческой жизнью… Талант художественного общения, насущная потребность жить в искусстве питал дар инициатора уникальных концертных вечеров…» 4 .
Архивные материалы за 1821 г. говорят о существовании в имении Виельгорских симфонического оркестра. Именно годами курской «ссылки», начиная с 1820 г. датируется начало творческого пути Мих.Ю.Виельгорского-композитора. Именно наличие симфонического оркестра определило создание крупных, в том числе инструментально-симфонических произведений вельможного автора:1-й симфонии Си-бемоль мажор и 2-й симфонии Фа-мажор (до 1922 г.), Увертюры Ре-мажор (до 1922 г.), Air varie для виолончели с оркестром (1820).
Привлечение на концерты Виельгорских любителей музыки из соседей-дворян стимулировало появление хоровых, вокальных и камерноинструментальных сочинений графа, таких как мужской хор «Верность до гроба» (1822), хор-мотет «Ave verum» (возможно, появление ансамблей на латинские тексты было связано с тем, что Луиза Карловна Бирон была католичкой).
Первое описание композиторских опусов Мих.Ю.Виельгорского было сделано на основе его рукописей, хранящихся в отделе рукописей НРБ в фонде Виельгорских-Веневитиновых.
Этот архив представляет наибольший интерес для исследователей русской дворянской усадебной культуры. Т. Трофимова, первый исследователь композиторского наследия Мих. Ю. Виельгорско-го в 1937-39 гг., даёт целостную исчерпывающую характеристику творческого лица вельможного композитора-меломана.
«Виельгорский в музыке был далеко не самоучкой. Напротив, он своевременно получил незаурядное музыкальное воспитание (Мартин-и-Солера, Керубини), он прошёл солидную школу совместной игры и с детства впитал в себя лучшие традиции западного классицизма. Кроме того, он имел возможность исчерпывающе изучить практику оркестрового письма.
Основными чертами Виельгорского-компо-зитора были: явное тяготение (в начале творческого пути) к крупным симфоническим и камерным формам, к хорам и ансамблям. Многоголосное хоровое начало было у Виельгорского первой формой его музыкального мышления: наброски мелодий и тем излагались им первоначально в виде хоровых или инструментальных партитур – случай очень редких среди дилетантов. Для творчества Виельгорского очень характерно преобладание западнической ориентации в приёмах письма и материала, особенно в симфонических и камерных произведениях. Творческий процесс у Виельгор-ского был лёгким и быстрым. Творческая природа была активна, подвижна, отзывчива.
Симфоническое наследие Виельгорского обнаруживает определённое симфоническое дарование, солидную школу и владение техническими средствами оркестра классического состава мы не видим в оркестровых и камерных сочинениях ясного живого лица композитора: оно заслонено вполне культурным, но обезличивающим одеянием западного образца (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен). В равной мере мы не видим в них и национального лица – в них нет освежающей струи народной мелодики. Но учтите, что большинство вышеназванных произведений составляют первый творческий этап композитора.
В личном творческом пути Виельгорского этот дебют был не только удовлетворительным, но блестящим» 5 .
Следует отметить, что музыкально-творческая продукция вельможного композитора сразу же исполнялась, пусть и в узком кругу для таких же помещиков-меломанов соседей.
Об этом свидетельствуют хранящиеся в марьинском архиве Барятинских рукописные программы концертов в Луизино за 1921-1823 гг. В этот период концертная жизнь в Луизино была на редкость интенсивной – исследователь пишет о 33-х концертах за 4 месяца, причём это были концерты преимущественно симфонической музыки. Концерты проходили, как правило 2-3 раза в неделю, но иногда устраивались даже каждый (!) день.
Вот рукописные афиши музыкальных собраний в Луизино за 1822-23 гг.:
«2 января 1822 г. – Симфония графа Михаила Виельгорского в Ре-мажоре; Ария Бартоло из «Женитьбы Фигаро» Моцарта «Месть» поёт граф Михаил Виельгорский; Симфония Мегюля в соль-миноре;
-
3 января 1822 г. – Квартет Гайдна в Соль-мажоре; 3-й квартет Ромберга в ре-миноре; Квартет Моцарта в ля-миноре;
-
4 января 1822 г. – Симфония Гайдна в До-мажоре; Ария из «Сотворение человека» поёт граф Михаил; Увертюра Россини в опере «Отелло»; Ария с вариациями для виолончели соч. гр. Михаила; Аве верум корпус. Мотет для трёх голосов с аккомпанементом оркестра соч. гр. Михаила, он же – первый тенор, второй тенор – музыкант оркестра и мадам Шоттен; Увертюра «Фаниска» Керубини.
С конца 1822 г. концерты, как правило, проходили в двух отделениях:
-
16 января 1823 г. – 1-е отделение– 4-я симфония Бетховена в Си-бемоль мажоре; 3-й концерт для скрипки Лафона исп. мсье Рудерсдорф; Марш соч.гр. Михаила;
2-е отделение – Увертюра «Йозеф» Мегюля; Первая ария из той же оперы исп. гр. Михаил; Болеро для в-чели Крафта исп. гр. Матвей; Трио из «Йозефа» поют бр. Виельгорские и мсье Рудер-сдорф; Фрагмент ансамбля из той же оперы «Нет, вечность, которую я оскорбил» поют бр. Виель-горские, мадам Рудерсдорф и музыканты оркестра; Увертюра Мегюля в Ми-бемоль мажоре;
17 января 1823 г. – 1-е отделение – 4-я симфония Бетховена в Си-бемоль мажоре; Концертная симфония для 2-х скрипок исполняют мсье Теплов и Антуан; Увертюра гр. Михаила в Ремажоре; 4.Увертюра к опере «Элиза» Керубини;
2-е отделение – Ария из «Gazza ladra»Россини исп. гр. Матвей; Второй антракт из «Фаниски» Керубини; Финал 2 акта из той же оперы, поют те же, что и в №7 предыдущего дня; Увертюра к «Баядерке» Кателя» 6 .
В этих документальных свидетельствах удивительной духовной жизни, возникшей словно по мановению волшебной палочки в глухой курской деревне, поражает многое. Это и постоянное исполнение новых музыкальных сочинений графа Михаила. И звучащая музыка многочисленных, в их числе, ныне забытых европейских композиторов-современников Гайдна, Моцарта, Бетховена и Россини. И исполненные именно в Луизино (впервые в России!) все симфонии Бетховена (кроме 5-й и 9-й), что подразумевало и наличие библиотеки партитур, и соответствующий состав оркестра, который, по-видимому, формировался до 1821 г., и постоянное участие в этих концертах любителей-помещиков из соседей, как певцов, так и инструменталистов.
Среди сложившегося в эти годы круга исполнителей из числа дворян одной из главных фигур был граф Матвей Виельгорский, виолончелист и певец. (Фото 3.).

w -6,^«*
•^WS^» ■ "^a#„f*n.<1
^/wCvm । ^r
Cow/c • "?A
-‘Ai'.tofyoeAvti.^##!®*# ; ^tie/yoro/yk f^.W Я<<6
Фото 3. Портрет гр. Матв. Ю. Виельгорского.
Фото из общедоступных источников.
Частое появление его имени в программах концертов в Луизино в 1822-23 гг. объясняется его близким нахождением по военной службе к местопребыванию семьи графа Михаила – с 1821 по 1823 гр. Матвей командовал кирасирским дивизионом, расквартированном в уездном Севске Орловской губернии неподалёку от Луизино7.
Известно, что скрипач Иван Островский, который выступал как солист, был капельмейстером оркестра Виельгорских, но найти сведения о других исполнителях не удалось.
Можно лишь предполагать, как попали программы концертов в Луизино в марьинский архив Барятинских. По-видимому в этот период владельцы Марьино и Луизино общались между собой (их поместья находились в соседних уездах западной части Курской губернии на расстоянии около 100 км). В пользу этого предположения говорит тот факт, что именно к 1822 г. – периоду первого расцвета композиторского творчества графа Михаила и домашних музыкальных концертов в Луизино – относится единственное сохранившееся крупное симфоническое сочинение князя Ивана Ивановича – Увертюра ре-минор для большого симфонического оркестра.
Но именно марьинский архив Барятинских сохранил многочисленные программы концертов в усадьбе Виельгорских. И это говорит либо о том, что князь Ив.Ив. Барятинский являлся гостем Виельгорских (что маловероятно, учитывая замкнутый и нелюдимый образ жизни владельца Марьино), либо же (и это гораздо вероятнее, учитывая географическое соседство имений обеих вельмож), что музыка, звучащая в Фатеевке (Луизино), «любезно предлагалась просвещённому вниманию Его Сиятельства». (Фото 4.).
В пользу последнего говорит адресованное князю Барятинскому письмо от капельмейстера оркестра Виельгорских, скрипача Ивана Островского (пер. с франц. Н.С.). Это письмо, по-видимому, является ответом на просьбу князя Барятинского доставить оркестр из имения Виельгорских в имение Барятинских, возможно, с целью послушать какое-либо заинтересовавшее князя произведение. 8

Фото 4. Портрет кн. И.И.Барятинского.
Фото из общедоступных источников.
которые имеют ценность для истинных знатоков, то они будут бесполезны. Мой оркестр уехал из Луизина сегодня утром и я тоже рассчитываю вскоре попрощаться с господами графами Михаилом и Матвеем.
Если Ваше Сиятельство удостоит почтить меня своими дальнейшими приказами, я смогу их принять на своём месте в Курске или позднее в Орле.
Имею честь оставаться глубокоуважающим Вас преданным слугой Вашего Сиятельства Иваном Островским.
19 мая 1822 г.»
Об упоминаемых в этом письме владельцах курских дворянских усадеб (Чернышёвы, Тепло-вы, Анненковы, Комаровские) и о некогда существовавшей в них музыкальной жизни не только не удалось найти никаких сведений, но и сами эти усадьбы исчезли с лица земли. (Фото 5, 6.).
Однако, даже немногие сохранённые архивами следы короткой, но поистине необыкновен-
«Князь!
К моему большому сожалению, я не могу выполнить поручение, которое дали мне Ваше Сиятельство. Во время отдыха музыканты потеряли форму (в оригинале буквально: перепились, – Н.С.) и разъехались навестить своих родственников.
Кроме того, я не считаю, что мне разрешено распоряжаться оркестром без согласия г-на графа Чернышёва.
Но есть один выход, чтобы выпутаться из этого неудобства: можно доставить оркестр несколькими неделями позднее. Я напишу об этом г-ну графу (Чернышёву -Н.С.), а за это время музыканты отдохнут и затем смогут приехать в Ивановское (Марьино – Н.С.) к 15 июля.
Возможен и другой выход – вызвать людей из более дальних мест, но тогда Вам, князь, понадобится около 10 человек… Что касается певцов г-на графа Комаровского, я полагаю, что до того, как предпринимать попытки их вызвать, следовало бы справиться о них у Ваших ближайших соседей.
…я думаю, что нам не хватает струнных, и по этому поводу, вероятно, надо будет обратиться к г-ну графу Теплову, чтобы заполучить несколько крепостных из его оркестра. Хочется верить, что музыканты г-на Анненкова очень способные, но если они не играли много музыки Бетховена, Керубини и всех тех композиторов,

Фото 5. План имения Луизино гр. Мих.Владимировича Соллогуба в Фатеевке, 1887 г. Гос. архив Курской области (ГАКО) Ф.621. Оп.2. Д.898

Фото 6. Современный вид Фатеевки. Мостик через реку Журавкуоколо пруда в парке усадьбы Луизино.
ной музыкальной деятельности владельцев курских усадеб Марьино и Луизино, вдохновлённые их любовью к высокому искусству, и сегодня могут служить ободряющим примером для исследователей.
Список литературы Из истории музыкальной культуры дворянских усадеб Курской губернии на рубеже 20-хг г. XIX века: о курском периоде жизни графа Мих.Ю. Виельгорского(1818-1823)
- «А сердце оставляю вам…» // Грива Т. Зап1. Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. Фонд Барятинских Б/19. Оп. 192. Л. 34г.
- Синянская Н. О музыкальной культуре дворянских усадеб Курской губернии в первой трети XIX века [К истории рода князей Барятинских] // Сб. Общества изучения русской усадьбы. Вып.10 [26]. М., 2004.
- Тарасова М. Иконография Барятинских// Культурное наследие Курского края. Сб. докл. областной научно-практ. конференции. Курск, 1998. 4. Трофимова Т. Музыкальное наследство композитора М.Ю.Виельгорского. Записки отдела рукописей ВГИБЛ. Вып. 2. М., 1939.
- Штейнпресс Б. Матвей Юрьевич Виельгорский // Советская музыка. 1946. № 8-9.
- Щербакова Т. Михаил и Матвей Виельгорские. Исполнители. Просветители. Меценаты. М.: Музыка, 1990.