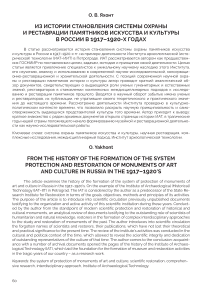Из истории становления системы охраны и реставрации памятников искусства и культуры в России в 1917-1920-х годах
Автор: Яхонт Олег Васильевич
Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir
Статья в выпуске: 1 (5), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история становления системы охраны памятников искусства и культуры в России в 1917-1920-х гг. на примере деятельности Института археологической (исторической) технологии (ИАТ-ИИТ) в Петрограде. ИАТ рассматривается автором как предшественник ГОСНИИР по поставленным целям, задачам, методам и принципам своей деятельности. Целью статьи является привлечение специалистов к уникальному научному наследию этого Института, его изучению, анализу и использованию в современной научно-исследовательской, консервационно-реставрационной и хранительской деятельности. С позиций современной научной охраны и реставрации памятников истории и культуры автор проводит краткий аналитический обзор документов, свидетельствующих о выдающейся роли ученых гуманитарных и естественных знаний, реставраторов в становлении комплексных междисциплинарных подходов к исследованию и реставрации памятников прошлого. Вводятся в научный оборот забытые имена ученых и реставраторов, их публикации, не утратившие своего теоретического и практического значения до настоящего времени. Рассмотрение деятельности Института проведено в культурнополитическом контексте времени, что позволило раскрыть научную принципиальность и самоотверженность выдающихся представителей культуры того времени. Автор приходит к выводу: краткое знакомство с рядом архивных документов открыло страницы истории ИАТ, в трагические годы нашей страны положившего начало формированию музейной и реставрационной деятельности как научно-исследовательской работы.
Истема охраны памятников искусства и культуры, научная реставрация, комплексные исследования, междисциплинарный подход, институт археологической технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/170198020
IDR: 170198020
Текст научной статьи Из истории становления системы охраны и реставрации памятников искусства и культуры в России в 1917-1920-х годах
В беседе со мной в мае 1990 г. в Венецианском Европейском центре сохранения и консервации памятников истории выдающийся английский реставратор (а в то время – председатель Европейского комитета охраны и консервации памятников истории и культуры) сэр Бернард Фильден произнес запомнившуюся фразу: «Необходимо помнить о тех, кто предшествовал в нашей деятельности, на плечах которых мы вошли в важную и благородную систему спасения и реставрации памятников культуры». Соглашаясь с ним, я посчитал, что в дни 65-летия нашего Института необходимо вспомнить о тех, кто заложил основу системы охраны и реставрации памятников истории и культуры более ста лет назад*. Имеются в виду ученые и реставраторы Центральных государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ) в Москве и Института археологической технологии (ИАТ) в Петрограде. О первом названном учреждении широко известно, благодаря многочисленным публикациям, о втором знают лишь немногие специалисты. И это, несмотря на огромную работу, проделанную его учеными и сотрудниками. После знакомства с архивом ИАТ мне стало понятно, что этот Институт по поставленным целям, задачам, методам и принципам был научным предшественником нашей организации.
Я считаю нужным представить ситуацию, в которой они работали. Ленинская партия пришла к власти в России в результате Октябрьского переворота 1917 г., совершенного на деньги германского штаба. Об этом стало известно по архивным документам; это так же подчеркивал Максим Горький: «Революция у нас делается то на японские, то на германские деньги»1. Из многих публикаций архивных материалов и воспоминаний современников я решил использовать (на мой взгляд – убедительные) опубликованные в 1917 – 1918 гг. статьи М. Горького2. Уже тогда он был признанным всемирно известным «пролетарским писателем и буревестником революции». Еще до событий 1917 г. близко знал В. И. Ленина, дружил с ним и другими «вождями Октября»; помогал им не только своим литературным талантом, но и деньгами, за что был арестован, сидел в тюрьме. Его статьи 1917 – 1918 гг., названные «Несвоевременные мысли» и опубликованные в газете «Новая жизнь» (созданной при его участии), интересны своей документальной достоверностью. Благодаря этому они сохраняют исторический интерес.
М. Горький уже вскоре после захвата власти был поражен изменением политики большевиков и вынужден призвать читателей открыть «глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия»3. По результатам большевистских практических действий он констатировал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся, якобы по пути "социальной революции"… На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления…»4
Активизирующиеся массовые грабежи и разрушения, поддержанные большевиками, вызвали у М. Горького естественные протесты. «Грабят, воруют, поощряемые свыше премудрой властью, возгласившей народу и миру якобы новейший лозунг социального благоустройства – «Грабь награбленное!»5
Вскоре после переворота, 7 декабря 1917 г. он записал: «Одна за другой уничтожаются ценнейшие библиотеки… Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах, а библиотеки – сожгли, рояли изрубили топорами, картины – изорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни…»6 Позднее он запишет: «Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать... в Феодосии солдаты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по 25 рублей за штуку. Это очень "самобытно", и мы можем гордиться – ничего подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции»7.
М. Горького потрясло мародерство «солдат октября» во время переворота: «Я не могу считать "неизбежными" такие факты, как расхищение национального имущества в Зимнем, Гатчинском и других дворцах. Я не понимаю, – какую связь с "ломкой тысячелетнего государственного уклада" имеет разгром Малого театра в Москве и воровство в уборной знаменитой артистки нашей М. Н. Ермоловой?»8 Подобным был протест члена советского правительства, главы Наркомата просвещения А. В. Луначарского, пославшего В. И. Ленину возмущенное письмо. «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется...» Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше! Вынести этого не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета Нар. Комиссаров. Я сознаю всю тяжесть этого решения. Но я не могу больше»9.
Ответ В. И. Ленина был таким: «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?»10
Многие свидетели событий воспринимали эти слова В. И. Ленина так же, как и М. Горький: «Вполне достойный конец отвратительной демагогии, развратившей "народ"… В наши кошмарные дни совесть издохла… Где слишком много политики, там нет места культуре, а если политика насквозь пропитана страхом перед массой и лестью ей – как страдает этим политика советской власти – тут уже, пожалуй, совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении к человеку и обо всем другом, что политический цинизм именует "сентиментальностью", но без чего – нельзя жить»11.
Судя по многим архивным документам и публикациям, были и те, кто вторил В. И. Ленину. Среди них – участники этих событий и представители «левого крыла» художественной интеллигенции: искусствовед Н. Н. Пунин, художник К. Малевич и др. Они призывали закрыть музеи, уничтожить «хлам прошлого», всё старое искусство. «Творец» из «левого крыла» К. Малевич, претендовавший возглавить новое «авангардное искусство», не только участвовал в расстреле и разграблении Московского Кремля, собора Василия Блаженного, но и претендовал на то, чтобы быть идеологом происходившей «революции» в культуре. Он призывал: «Новаторы современности должны создать новую эпоху. Такую, чтобы ни одним ребром ни прилегала к старой… Нужен ли Рубенс или пирамида Хеопса, нужна ли блудливая Венера Пилоту в выси нашего нового познания?.. Скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Василии Блаженном. Стоит ли заботиться о мертвом»12.
Уже 12 марта 1918 г. большевистское правительство, испугавшись активно наступающей германской армии и неуправляемых грабежей в столице, «революционных» пьяных матросов и солдат, забастовок и демонстраций голодных рабочих, сбежало в Москву и спряталось за стены Кремля – под защиту латышских стрелков. Тогда же по всей стране – при утверждавшейся так называемой «диктатуре пролетариата» – активизировались массовые разграбления, разрушения и уничтожения многих духовных и культурных центров России – почитаемых церквей, монастырей. В них многие иконы были сожжены, колокола, в том числе древние, сброшены и разбиты. Мраморные и бронзовые скульптуры, многие памятники выдающимся историческим деятелям на площадях городов были уничтожены. По призыву «большевистских комиссаров» в Академии художеств в Петрограде и в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества «революционные» студенты разбили большое число старых скульптур, уникальных слепков с античных памятников, порезали и сожгли ценные картины и рисунки. Ряд монастырей (первым – Новоспасский в Москве) большевики стали превращать в концлагеря. В них сгоняли и расстреливали не только представителей бывших правящих классов, но и деятелей культуры, науки, инженеров, священников, учителей, рабочих и крестьян – всех тех, кто не пожелал признать новую власть.
М. Горький констатировал: «Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России...» – русский народ заплатит за это озерами крови… Ленин «вождь» и – русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу… Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт… Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей – тысячами жизней, потоками крови»13.
Русскую интеллигенцию, самостоятельно мыслящую и критически воспринимающую идеи, лозунги, политику и действия большевиков, В. И. Ленин люто ненавидел, называл ее «гнилой». Он нередко характеризовал ее в выступлениях нецензурными словами и натравливал на нее неграмотное население. М. Горький отмечал: «В "Правде" различные зверюшки науськивают пролетариат на интеллигенцию»14. Это ненавидящее отношение к интеллигенции активно поощряли полуграмотные и полуобразованные «комиссары революции», призывая народ «убивать на месте гнилую интеллигенцию». Известный историк Г. В. Вернадский констатировал: «Проводя в жизнь свои планы, Ленин был безжалостен, не придавал никакой цены человеческой жизни… Если посчитать человеческие жизни, утраченные при правлении Ленина, придется поместить его в список самых ужасных тиранов, которых знала история»15. Система, формы, характер и методы политических репрессий, заложенных В. И. Лениным, просуществовали в стране до начала 1990-х гг., с каждым годом эволюционируя и совершенствуясь в своей мерзости. Репрессии и запреты были направлены на свободу волеизъявления, на свободу слова. Большевики, до этого требующие всеобщей свободы слова, захватив власть, стали громить издательства и типографии своих оппонентов, сажать и убивать наиболее активных их членов. Любые протестные высказывания в печати они считали не допустимыми, закрывая газеты и журналы. Резкое неприятие этим действиям большевиков М. Горький высказал в этих статьях: «Советская власть снова придушила несколько газет, враждебных ей… Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и его приспешники узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромом всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны»16. В адрес М. Горького со стороны руководства большевиков посыпались угрозы. Протестуя против них, М. Горький отвечал, что «особенно подозрительно, особенно недоверчиво» относится к тем, кто неожиданно оказался «у власти, – недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего»17. В результате 29 июля 1918 г. газета «Новая жизнь» решением большевистского правительства была закрыта. В дальнейшем по требованию В. И. Ленина «пролетарский писатель» М. Горький, лишенный права публиковать свое мнение, был вынужден замолчать, а несколько позднее был изгнан – уехал за границу.
Для возврата долга германскому правительству, а также для организации подобных переворотов в других странах с целью осуществления «мировой революции» требовалась иностранная валюта. Поэтому сразу же при утверждении своей власти большевики главное внимание уделили не только захвату («национализации») банков, но и имущества и художественных коллекций, хранящихся в царских и высшей знати дворцах, поместьях, музеях. Для выявления и учета художественных и исторических ценностей страны правительство привлекло музейных специалистов. Многие из них, выявляя в царских и частных собраниях, монастырях и церквях произведения искусства, осуществляли свою деятельность с целью спасения их от грабежа и поджогов. На основе этих коллекций создавались государственные и народные музеи. Только с 1917 по 1923 г. было создано 244 новых музея. Иная цель была у большевиков, стремившихся продавать за границу многие бесценные предметы искусства и старины, «превращая» их в иностранную валюту. Для оправдания этого большевики вначале внедряли легенду о получения средств для борьбы с голодом (ими же организованным, судя по раскрытым архивным документам, подписанным В. И. Лениным). Позднее – для их продолжения – утверждались идеи необходимости иностранной валюты для проведения коллективизации и индустриализации страны, закупки современного промышленного оборудования. Как стало известно по раскрытым в 1990-е гг. документам, полученная валюта пошла в основном на организацию «мировой революции». Ленинская идея «мировой революции» постоянно занимала головы советских правителей, поглощая впустую (как подтвердилось со временем) колоссальные национальные финансовые и иные ресурсы, обогащая зарубежные музеи и частные собрания, различных авантюристов и миллионеров (Хаммера, Гюльбекяна, Меллона и др.). Из дворцов и музеев страны были изъяты и проданы шедевры древнерусской иконописи, западноевропейской и русской станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства. С первых лет советской власти все музеи страны были обязаны ежегодно сдавать государству для продажи запрашиваемые произведения искусства и истории. Об этом свидетельствуют старые инвентарные книги, в которых сохранились записи о списании для передачи специальным органам (Наркомторгу, Антиквариату, Торгсину, ОГПУ, Особым частям НКФ и РКИ и др.) для продажи за границу многих уникальных памятников истории и произведений искусства, составлявших когда-то национальное богатство нашего народа.
В то трудное время, в октябре 1919 г., был основан в Петрограде Институт археологической (с 1931 г. – исторической) технологии при Российской Академии истории материальной культуры (ИАТ–ИИТ РАИМК), которая наследовала деятельность прежней Императорской археологической комиссии. О деятельности ИАТ в последнее время имеется лишь немного информации18, не соответствующей значительному вкладу его сотрудников в организацию научных исследований памятников истории и искусства, в развитие и внедрение современной теории, практики и методов консервации, реставрации и атрибуции. Беглое знакомство (ввиду короткого командировочного времени) с частью архивных материалов ИАТ удивило меня уникальностью исследований того времени, не утративших актуальности до сих пор; колоссальностью работ, выполненных сотрудниками в тяжелые годы отечественной истории; и, практически, отсутствием внимания современных специалистов к этому наследию.
После Октябрьского переворота бывшая Северная столица постепенно превращалась в город-призрак, в котором решением новой власти многие памятники намеренно уничтожались, дворцы и жилые дома подвергались нападению пьяных толп «восставших» матросов и солдат, массовым грабежам. Из-за отсутствия топлива жители уничтожали уникальные старые деревянные дома и вековые деревья. Голод и холод вынуждал многих отдавать за бесценок то, чем раньше очень дорожили. М. Горький записал 19 мая 1918 г.: «Умирает Петроград как город, умирает как центр духовной жизни. … Голод в Петрограде начался и растет с грозной силой. Почти ежедневно на улицах подбирают людей, падающих от истощения»19.
И в этой драматической ситуации был сформирован коллектив из ученых гуманитарных и естественных наук, объединенных в Институте археологической технологии при РАИМК. Позднее М. В. Фармаковский (один из директоров этого учреждения) писал: «Институт был основан на мысли академиков Н. Я. Марра, А. Е. Ферсмана и С. Ф. Ольденбурга как для изучения археологических памятников со стороны природы и техники их обработки, так и для разработки научных методов реставрации и консервации этого ряда документов»20. В одном из архивных документов было записано: «Цель: А / Исследование археологического материала точными методами естественных наук; Б / Изыскание научно обоснованных и экспериментально проверенных методов реставрации музейных предметов…»
В записи Журнала ИАТ от 12 сентября 1919 г. констатировалось следующее. «Заседание по вопросу образования Института Археологической Технологии» под председательством Н. П. Сычева, на котором обсуждались проблемы организации и будущего направления деятельности создаваемого учреждения. Присутствовали: С. П. Бирбаум, А. А. Миллер, И. М. Михайлов, П. П. Покрышкин, К. К. Романов, С. Д. Руднев, С. Н. Тройницкий, М. В. Фармаковский, А. Е. Ферсман, М. Н. Январев. Присутствующие высказывали свое мнение о цели и задачах создаваемого учреждения. Н. П. Сычев (историк искусства и художник) считал, что создаваемый Институт должен быть «преимущественно ученым учреждением...». Археолог и этнограф А. А. Миллер, являясь в то же время музейным работником, высказал мнение, что Институт, являясь «ученым учреждением, не должен терять и практического характера, необходимого при исполнении задач, возникающих перед Академией». Он утверждал, что «существующие проекты разделения Института на ученую иссле- довательскую часть и практическую имели целью, с одной стороны – дать ученым исследовать методы и технику реставрации и консервации древностей, в то же время руководить практическим применением их, с другой – чтобы возникающие перед техникой вопросы и задачи могли передаваться на обсуждение и разрешение ученым». Минералог и геохимик, академик А. Е. Ферсман сказал, «что изучение технологии – самостоятельная задача и потому деятельность Института часто не будет стоять в прямой связи с деятельностью Академии. Задача Института – не только разрешение вопросов, возникающих у археологов, а самостоятельная деятельность, состоящая в разрешении вопросов, диктуемых материалом, типом обработки и проч. предметов древности…» По мнению С. Н. Трояновского, «в Институте должны быть самостоятельные мастерские и лаборатории, ...черпающие свой опыт и методы из деятельности ученых Института». Далее «Академик А. Е. Ферсман высказался относительно создаваемых отделов Института: они должны сорганизовываться в зависимости: во-первых – от родов техники изучаемых предметов, как отделы: ткани, бумаги, керамики, металла, живописи, камня. Во-вторых – в зависимости от практических задач археологов, то есть отделов методов реставрации, методов воспроизведения т. п. Проект каждого отдела должен быть проработан специалистом, при отделах должны быть лаборатории, кроме того должна быть одна большая химическая лаборатория. Он предложил не предрешать основных задач института. Необходимо выяснить существующие и в ближайшее время осуществлять их по мере возможности, а сделанная реальная работа» определит будущую структуру учреждения (со временем, ее дополняя). Тогда же А. А. Миллер предложил провести исследования состава и техники сибирских бронзовых изделий. Археолога Б. В. Фармаковского интересовали исследования античной керамики, ее глины, красок, лаков, техники изготовления. Реставратор архитектурных памятников К. К. Романов указал на необходимость изучения составов и техники древних строительных материалов. Н. П. Сычев считал необходимым подготовить план работы фотографического отдела. Ф. П. Бирбаум согласился разработать план по исследованию технологии металла. В завершение заседания 12 сентября было решено определить в Институте два направления и отделения: Химико-технологическое, которое возглавил академик А. Е. Ферсман, и Художественно-реставрационное, руководимое П. И. Нерадовским. Было также решено активно сотрудничать с ведущими специалистами других научных учреждений и музеев, привлекая их к совместному решению предстоящих проблем.
Так, судя по сохранившимся архивным документам, было положено начало деятельности ИАТ. В процессе деятельности Института было сформировано пять направлений (отделов) его исследовательской и практической работ: камня, керамики и стекла, техники живописи, металла, органических материалов. «Всем отделам содействуют лаборатории, работающие сообразно методам исследований: микроанализ, химический анализ, биологический анализ, фотоанализ. Лаборатории обслуживает шлифовальная мастерская». Со временем были сформированы подразделения, занимающиеся исследованиями бумаги и других материалов. Важно указать на то, что впервые в нашей стране реставрационные проблемы с памятниками прошлого, их решения стали рассматриваться не традиционно по видам искусства (живопись, скульптура, графика и т.д.), а по материалам, из которых создано произведение (дерево, камень, керамика, металл, органические остатки и т.д.), при главном внимании к изучению их свойств, к процессам старения, методам консервации и хранения.
Необходимость создания Института археологической технологии, его цели и главные задачи были предсказаны, по сути, ранее. А именно: выступлениями делегатов II Всероссийского съезда художников 1911 – 1912 гг. и принятыми ими Решениями, а также выводами Эрмитажной комиссии. Помня об этом, Институт «занялся в первую очередь», как писал М. В. Фармаковский, изучением прошлого и современного опыта по сохранению, консервации, реставрации произведений из различных материалов, анализом результатов работы ведущих зарубежных лабораторий. Как было отмечено позднее, «собранная группа ученых естественных и гуманитарных наук на основе изучения и анализа многовекового отечественного и зарубежного опыта по вопросам технологии создания произведений из различных материалов, определения причин и характера их разрушения стремились найти оптимальные методы их консервации, реставрации и хранения. Свою задачу они видели в том, чтобы "взять от памятника все, что он сможет дать для познания культуры далекого прошлого и сохранить этот памятник для будущего, когда к нему возможно будет приложить еще более совершенные методы исследования" и реставрации. В основе программы их работ была выработка новых методов анализа достижений человеческой мысли и духовной деятельности прошлого путем поиска общего языка между гуманитарными и естественными науками»21.
Под руководством химика В. А. Щавинского впервые в России проводились системные исследования техники и технологии живописи, методы реставрации и укрепляющих составов, применяемых в Эрмитаже и Русском музее. Были разработаны рекомендации по современным научным реставрационным требованиям. Собрана большая библиография по истории красок, применяемых иконописцами Древней Руси, их терминологии, а также коллекция образцов, в том числе фресковой живописи и чернил. Начато проведение исследований произведений живописи в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. На основании химико-физических исследований были пересмотрены традиционные методы реставрации древнерусской живописи и предложены новые – более щадящие – для памятников прошлого. Также были собраны материалы по использованию в русских деревнях местных красителей ткани, рецептуры их производства и использования.
В Отделе камня, руководимом академиком А. Е. Ферсманом, были проведены экспертизы коллекции драгоценных камней, хранящихся в Эрмитаже, Оружейной палате и других государственных музеях. «Изучались причины разрушения различных пород камня, осуществлялся выбор оптимального температурно-влажностного режима для сохранения памятников из камня и использования этих данных с целью спасения архитектурных и скульптурных памятников. Одновременно разрабатывались методы безопасной очистки и консервации скульптуры. Были исследованы причины разрушения памятников, при восстановлении которых применялись традиционные и современные материалы. В результате этих исследований были отмечены характеристики ряда материалов, применяемых тогда многими в восстановительных работах. Было подтверждено ранее высказанное мнение П. П. Покрышкина о разрушающем воздействии цемента при работе с известняками, мраморами и другими карбонатными материалами. Были отмечены отрицательные результаты при использовании традиционных методов: применение кислот для очистки скульптур из мрамора, уничтожающую оригинальную патину, а также при использовании шлифовки и полировки поверхности скульптуры»22.
Актуальная для музейных работников проблема разрушения предметов из олова – «оловянная чума» – была успешно решена в отделе металла, руководимом И. А. Гельнбеком. При содействии академика Н. С. Курнакова были определены причины разрушения олова, разработаны методы борьбы, выработаны условия хранения и осуществлены реставрационные работы с аналогичной коллекцией в Русском музее.
М. В. Фармаковский записал, что сотрудникам Института академик «Н. Я. Марр поручил (определить) постановку дела хранения колоссальных книжных сокровищ Гос. Публичной Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Новое дело собрало около себя много лучших специалистов и положило начало большой серии работ научного характера по вопросам хранения книг и документов, что, в свою очередь, привело к созданию особой Лаборатории консервации и реставрации документов Академии наук»23.
Помимо научно-исследовательской деятельности сотрудники Института активно содействовали практической работе музеев и библиотек, как проведением реставрационных работ, так и научными консультациями по вопросам хранения, создания оптимального температурно-влажностного режима, консервационно-ре-ставрационных работ, экспертизы и атрибуции памятников истории и искусства. Для музейных работников, реставраторов и научных специалистов страны теоретическими и практическими пособиями стали публикации Институтом 12 выпусков рекомендаций и инструкций, названных «Материалы по методологии археологической технологии», определяющие новые научные позиции в хранении и реставрации музейных предметов. Этим же задачам были посвящены реставрационные выставки, на которых сотрудники Института демонстрировали отреставрированные в соответствии с новыми научными требованиями произведения искусства из Эрмитажа, Русского музея и других музейных учреждений Ленинграда. Они экспонировались вместе с подробной научной документацией поэтапно проводимых исследовательских и практических работ (включая обширную фото- и иную документацию). В 1932 г. были изданы «Основы исторической технологии», обобщающие многолетние исследовательские работы Института по всем направлениям его деятельности. Завершающим трудом в области практической реставрации стала публикация уже цитированной нами книги М. В. Фармаковского.
Главными задачами для ученых Института были комплексные исследования материала произведений искусства и истории, технологии изготовления, причин и характера их разрушения, поиск, разработка и внедрение в музеях наиболее современных безопасных методов консервации, реставрации и создания стабильных условий хранения (температурно-влажностного режима). Исходя из этого, они не стремились срочно реставрировать древние памятники, используя принятые традиционные приемы (нередко агрессивные и разрушающие), а старались разработать безопасные методы их сохранения, выявления, учета и консервации (укрепления). В ряде документов, направленных в Правительство, они указывали на пагубность отсутствия как научной системы хранения музейных предметов, так и должности профессионального хранителя-консерватора, знающего и выполняющего задачи спасения и сохранения национального наследия.
Сложилось так, что предлагаемые новаторские разработки ИАТ, которые позволяли бы оптимально решать реставрационные задачи, тогда не встретили понимания у многих. Объясняется это тем, что выбранный сотрудниками ИАТ строго научный, академический и, в то же время, новаторский, опережающий на несколько десятилетий, подход к проблеме сохранения и реставрации памятников был рассчитан на стабильную долголетнюю деятельность как этого учреждения, так и всей отечественной музейной системы. Они считали, что главная задача – выявить, сохранить и укрепить памятник в том виде, в котором он находится. Его раскрытие и реставрация должны проводиться в будущем, при нахождении максимально безопасных методов этих работ на памятнике и, в то же время (новое в отечественной науке и практике) – при условии сохранения поздних, исторически и художественно ценных наслоений.
Беглое знакомство с архивными материалами Института археологической (исторической) технологии документально подтвердило, что его сотрудники не ограничивались лишь сугубо лабораторными исследованиями. Они осуществляли многочисленные практические работы по обследованию коллекций Эрмитажа, Русского музея, Оружейной палаты и других музейных собраний, по наблюдению за реставрацией монументальных памятников Петрограда – Ленинграда, по изучению состояния древних соборов Старой Ладоги, Юрьева Польского и других объектов. Для этого часто привлекались ведущие специалисты из других учреждений.
Так, в протоколе от 15 мая 1923 г. было зафиксировано обследование Георгиевского собора 1234 года в Юрьеве Польском, осуществленное архитектором Отдела по делам музеев Наркомпроса П. Д. Барановским и местными руководителями. Было выявлено, что «крыша древнего собора поржавела, имеет в нескольких местах небольшие отверстия и требует окраски. Оконные рамы ветхие и гнилые, стекла в нескольких местах побиты, роспись XIX века внутри собора от сырости отваливается вместе со штукатуркой… Крыша пристроенной в XIX в. ризницы проржавела и весьма сильно протекает и, превратившись в лед, разрушает древнюю стену из резного камня. Крыша паперти Троицкого собора проржавела и сильно разрушена в части, примыкающей к древнему северному крыльцу из резного камня. На потолке гнилой мусор разрушает резной камень. Окна почти все разбиты». Как следует из других документов, П. Д. Барановский и привлеченный им скульптор И. В. Крестовский продолжили обследования собора, осуществили обмеры памятника и археологические раскопки. Ими было найдено «под поздней кровлей, в земле, в разобранных пристройках к собору и во дворах соседних домов более 80 резных белокаменных рельефов, принадлежавших первоначальному древнему храму… Среди них были части композиции Распятия – так называемого Святославова креста с мемориальной резной надписью о строительстве собора при князе Святославе, пять фрагментов Деисусного чина, замковые камни с изображением ликов (возможно, Христа) и т.д.». Эти фрагменты после консервационных работ были размещены в экспозиции созданного в соборе музея24.
В следующем, наугад мной взятом документе, был доклад сотрудника Комитета по охране и реставрации монументальных памятников Г.И. Котова об обследовании 29 апреля 1924 г. стен крепости и Георгиевской церкви XII века в Старой Ладоге. Он записал, что происходит «постепенное разрушение стен крепости… выветривания и высыпания раствора между камнями и выпадения затем последних… Камни стен крепости выносятся местными жителями для своих строительных нужд». Георгиевскую церковь охраняют верующие. «Касаясь состояния фресок, можно отметить, что сколько-нибудь резкого ухудшения не заметно… Белая плесень замечается только в двух небольших пятнах на иконах праздников в иконостасе. Слабые белесоватые, как бы мучнистые налеты рассеяны по фрескам, но их присутствие, насколько я помню, замечалось неоднократно и ранее: оно, как будто, относится к постоянному их присутствию на фресках. Оба эти здания оказались в удовлетворительном состоянии… Ныне следует озаботиться об изыскании средств для удаления цементной штукатурки на фасадах Георгиевской церкви и для замены ее известковой. После удаления штукатурки следует произвести подробное техническое исследование в связи с обнаружением трещин в стенах и установлением их связи с трещинами на внутренней штукатурке, покрытой фресками. Теперь же следует установить наблюдение за состоянием этих внутренних трещин и, главным образом, путем их периодического фотографирования, так как наложение маяков на штукатурку с фресками может оказаться мерой нежелательной. Своевременной представляется очистка фресок от побелки на той части южной стены, где обилие трещин вызывает опасение за прочность штукатурки и за связи со стеной…» Как показали дальнейшие события, эти рекомендации, ранее высказанные архитектором-реставратором П. П. Покрышкиным, были осуществлены.
Весьма неожиданными для меня были документы, связанные с судьбой Александровской колонны в Ленинграде. По письму от 6 апреля 1925 г., полученному дирекцией ИАТ, стало известно, что руководством города принято решение о переделке – «переустройстве» Александровской колонны. Ленинградские учреждения – Губоткомхоз и Музей города – подготовили условия этого «переустройства»: «Замену фигуры ангела фигурой красногвардейца, замену всех прежних бронзовых рельефов нижней части колонны новыми, из бронзы того же состава, как и существующие; бронза может быть введена и в другие части памятника и только каменные части его должны быть оставлены неприкосновенными».
На основании этого распоряжения в ИАТ, затем и в самой Академии произошли обсуждения этого вопроса. Вызывает восхищение мужество ученых Академии и Института, которые, несмотря на происходившие репрессии, высказали аргументы против данного проекта руководства города. Было сказано, что «изменение облика колонны было бы не только искажением как памятника, но и площади в её целом. История охраны архитектурных ансамблей в связи с развитым городским строительством показывает, что при охране таковых не только избегают переделки, но, даже стараются освободить ценные в художественном отношении ансамбли от привнесенных в них поздних элементов». На совещании в ИАТ было принято решение: «Совещание считает не допустимым производить какие-либо изменения существующего облика колонны, а проект условия конкурса по переделке колонны неприемлемым». По результатам открытого широкого совещания, проведенного Российской Академией материальной культуры 25 апреля 1925 г., было принято решение: «Опыт показывает, что всякая переделка или доделка памятников высокого художественного значения в иные эпохи, после их создания, искажает их, а стремление подделать переделки будет не верно».
Позднее, в декабре того же года, в ИАТ поступило распоряжение Н. И. Иванова (должностное положение которого не удалось выяснить) об изменении состава прежней (не угодной власти) комиссии по переустройству Александровской колонны, с указанием нового проекта изменения памятника. В нем указано: «Фигура ангела должна быть заменена статуей Ленина во весь рост, исполненной по типу статуи Ленина, работы худ. Козлова В. В., находящейся в Смольном. Барельефы на пьедестале колонны также должны быть заменены новыми, темой которых должны послужить четыре этапа рабочего движения в России».
Это распоряжение (судя по публикациям и архивным материалам того времени) было определено руководством страны и города, ставшего Ленинградом, соорудить в центре бывшей столицы памятник идейному вождю нового государства. Один из ведущих советских руководителей Л. Красин это обосновывал. Он писал: «Нет почти крупной фабрики или завода, нет деревни и города, где тысячи и тысячи рабочих и крестьян не думали бы о том, чтобы иметь у себя на площади, на улице, в помещении клуба, своего Ильича из камня, чугуна, бронзы или, в крайнем случае, из гипса»25. Известно, что уже сооружался памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала. Властям города этого казалось не достаточным. К тому же, их раздражало, что в центре «города Ленина» (как они стали его называть) стоит памятник императору Александру I.
Проблема изменения Александровской колонны вновь стала темой обсуждения в Институте и Академии. Ситуация приобрела большую политическую остроту, обозначенная нарастающей борьбой со старой интеллигенцией. Но, несмотря на это и рискуя арестом (может быть, и смертью), многие участники обсуждения высказывали неприятие решения советской власти, аргументируя свое мнение. Сотрудник Наркомпроса А. Г. Шапиро считал, что при замене статуй «трудно узнать, что стоит на колонне Ленин, а не ангел… статуя на такой высоте не вполне ясно видна со всех точек площади». Профессор В. Я. Курбатов «приходит к выводу, что статуя на колонне будет видна на 10%... Вопрос о портретности ещё придется решать». А. П. Удаленков утверждал, что памятник Ленину «должен подавить всё окружение, а в таком случае правильно было бы убрать колонну». Общим решением присутствующие заявили, «что считают невозможным задание поставить статую Ленина на колонне, т. е. поставить на ампирном основании реалистическую фигуру и что добиться портретности на высоте 22 сажен – немыслимо». Восхищает то, что присутствующие ученые, несмотря на происходившие репрессии, проявили профессиональную честность и мужество в отстаивании своих убеждений. Хотя и был разработан новый проект конкурса, перестройки Александровской колонны не произошло.
В архиве удалось познакомиться с различными документами, в том числе с отчетами скульптора В. Л. Симонова по восстановлению Ростральных колонн Петрограда в 1918–1919 гг., работе реставрационных мастерских Эрмитажа и Оружейной палаты в 1928 г., консультациям сотрудникам Оружейной палаты В. К. Клейну и Ф. Я. Мишукову по методам реставрации металлических предметов. Большие материалы, подготовленные в 1927 г., посвящены проекту организации охраны музейных коллекций страны. Интересны воспоминания М. В. Фармаковского о деятельности ИАТ и другие документы, важные для изучения истории реставрационной и музейной деятельности в нашей стране.
Дальнейшие события определили трагическую ситуацию ИАТ–ИТТ и ЦГРМ. Названные учреждения характеризуются тем, что у них было общее видение главной цели – спасение и сохранение национальных памятников прошлого. Но их позиция не соответствовала генеральной линии партии и правительства – борьбе с прошлым и его памятниками. Вследствие этого в 1934 г. были ликвидированы Центральные государственные реставрационные мастерские, а в 1937-м был закрыт Институт археологической (исторической) технологии. Многие сотрудники этих учреждений были арестованы, отправлены в тюрьмы, концлагеря, прошли жесточайшие допросы. Среди репрессированных были (насколько мне известно): В. Н. Бене-шевич, Н. П. Лихачев, Н. П. Сычев, Ю. А. Олсуфьев, Н. В. Малицкий, А. И. Анисимов, отец Павел Флоренский, А. И. Некрасов, Ф. И. Шмит, Н. Г. Порфиридов, Н. Н. Померанцев,
-
А. Н. Греч, Н. И. Брягин, М. А. Ильин, Г. В. Жидков, Г. О. Чириков, П. И. Юкин, А. П. Смирнов, Л. А. Дурново, Б. Н. Засыпкин, Д. Ф. Богословский, П. Д. Барановский, П. И. Не-радовский, В. А. Комаровский, Г. К. Вагнер, А. Т. Лебедев и др. Вместе с ними часто были репрессированы члены их семей. Часть репрессированных, как Н. И. Бря-гин, А. И. Некрасов, умерли в заключении, а Ю. А. Олсуфьев, Г. О. Чириков, отец Павел Флоренский, А. И. Анисимов – расстреляны26. В тот период подобная участь постигла сотрудников многих музеев, университетов, институтов.
Представленная мной достаточно короткая информация не может полностью раскрыть той огромной работы, которая была осуществлена сотрудниками Института археологической (исторической) технологии с 1919 по 1937 г. Мое знакомство с рядом архивных документов открыло неизвестные страницы истории этого уникального учреждения, положившего в трагические годы нашей страны начало формированию музейной и реставрационной деятельности как научно-исследовательской работы. Надеюсь, что другие специалисты продолжат эту работу по истории отечественной охраны памятников и реставрации.
Список литературы Из истории становления системы охраны и реставрации памятников искусства и культуры в России в 1917-1920-х годах
- Горький М. "Несвоевременные мысли" и рассуждения о революции и культуре (1917-1918 гг.). М.: МСП Интерконтакт, 1990. С. 9.
- В. И. Ленин и А.В. Луначарский. Переписка, доклады, документы // Литературное наследство. Т. 80. М.: Наука, 1971. С. 46.
- Вернадский Г. В. Ленин - красный диктатор / Пер. с англ. В.С.Антонова. М.: Аграф, 1998. С. 301.
- Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: Учеб. пособие / 2-е изд. М.: Акад. проект, 2015. С. 139-141, 240-242, 427-428.
- Яхонт О. В. Вопросы методологии реставрации в некоторых документах 1920-х годов // Реликвия: Реставрация. Консервация. Музеи. №19. 2009. С. 14-18.
- Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М.: Тип. "Кр. Печатник", 1947. С. 32.
- Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920-1930-е годы. По материалам архивов. М.: Изд-во Академии горных наук, 2000. С. 399.