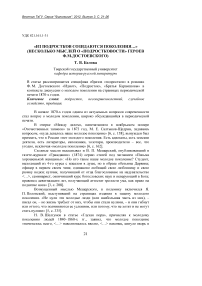«Из подростков созидаются поколения…» (несколько мыслей о «подростковости» героев Ф. М. Достоевского)
Автор: Белова Татьяна Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика образов «подростков» в романах Ф. М. Достоевского «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы» в контексте дискуссии о молодом поколении на страницах периодической печати 1870-х годов.
Подросток, несовершеннолетний, случайное семейство, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/146121003
IDR: 146121003 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи «Из подростков созидаются поколения…» (несколько мыслей о «подростковости» героев Ф. М. Достоевского)
В начале 1870-х годов одним из актуальных вопросов современности стал вопрос о молодом поколении, широко обсуждавшийся в периодической печати.
В очерке «Между делом», напечатанном в ноябрьском номере «Отечественных записок» за 1873 год, М. Е. Салтыков-Щедрин, задаваясь вопросом, «куда девалось наше молодое поколение» [6, с. 158], вынужден был признать, что в России «нет молодого поколения. Есть адвокаты, есть земские деятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители – все, что угодно, исключая «молодое поколение» [6, с. 162].
Сходные мысли высказывал и В. П. Мещерский, опубликовавший в газете-журнале «Гражданин» (1874) серию статей под заглавием «Письма хорошенькой женщины»: «Но кто такое наше молодое поколение? Студент, выходящий из 4-го курса с идеалом в душе, но в образе обезьяны Дарвина; офицер в первом своем чине, одинаково любящий свою любовницу и свою рюмку водки; купчик, получивший от отца благословение на надувательство <…>, семинарист, окончивший курс богословских наук и неверующий в Бога; правовед девятнадцати лет, получающий аттестат зрелости ума, как право на поднятие носа» [3, с. 208].
Возмущенный мыслью Мещерского, в полемику включился Я. П. Полонский, выступивший на страницах издания в защиту молодого поколения. «Не нули эти молодые люди (или наибольшая часть из них), – писал он, – но жизнь требует от них, чтобы они стали нулями, – и они гибнут или оттого, что подчиняются ее условиям, или потому, что не хотят и не могут стать нулями» [5, с. 335].
-
Н. В. Шелгунов в статье «Глухая пора», причисляя к молодому поколению людей 1840–1860-х гг., заявил, что молодое поколение «начиталось всего, <…> наволновалось вволю, <…> наконец, кинуло якорь в
тихом семейном пристанище; обзавелось детьми и превратилось в отцов и представителей элемента благоразумия» [9, с. 33].
Статья Шелгунова вызвала полемический отклик на страницах журнала «Заря». Автор статьи, скрывшись за псевдонимом Подрастающий, иронически объявлял себя пропагандистом и популяризатором шелгуновских идей. Он заявлял не только о своем решении «изменить молодому поколению и пристать к подрастающим» [4, с. 156–157], но и выражал готовность самому писать для него.
В попытках дать оценку молодому поколению активно использовались понятия подросток , подрастающее поколение , состояние подрастания , расти , которым придавалось акцентное звучание. Ф. М. Достоевский не мог оставаться равнодушным к развернувшейся дискуссии, некоторые его произведения находились в резко полемическом отношении к ней.
На наш взгляд, зарождение образа подростка, то есть человека, еще не сформировавшегося в нравственном смысле, восходит ко времени работы писателя над романом «Идиот». Возможно, в связи с тем, что в это время слово подросток еще не вошло в литературный обиход, Достоевский и использует близкое по значению слово несовершеннолетний . В романе это слово появляется в следующем контексте: «Князь рассадил гостей. Все они были молоденький, такой даже несовершеннолетний народ» [2, т. 8, с. 214]. Речь идет о группе молодых людей, приехавших к князю Мышкину на дачу с требованием денег. Это были Антип Бурдовский, Ипполит, племянник Лебедева Владимир Докторенко и отставной поручик Келлер, затесавшийся в компанию молодых людей «для куража» и «в качестве искреннего друга» [2, т. 8, с. 214].
Для характеристики этих молодых людей слово несовершеннолетний могло иметь несколько значений. Во-первых, согласно Российскому законодательству возрастом гражданского совершеннолетия считался 21 год. Исключая 30-летнего Келлера, этого возраста молодые люди еще не достигли. Во-вторых, само «несовершеннолетие» героев указывает не только на их биологический возраст, но и на несформированность их характеров, на незрелость их убеждений.
Достоевский был не одинок, связывая убеждения героев с возрастом гражданского совершеннолетия. Так, например, публицист Р. А. Фадеев в книге «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)», считая увлечение нигилизмом уделом несовершеннолетних, заявлял: «Нам, поколению отцов, не все равно, что происходит с нашими детьми до двадцати одного года» [8, с. 22]. Ни убеждения молодых людей, ни беспочвенность их требований, ни внешний вид (грязное белье Бурдовского, визгливый голос Ипполита) не вызывают сочувствия. Тем не менее, Достоевский не спешит их осуждать. По словам князя Мышкина, «это все молодежь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно попасть под извращение идей» [2, т. 8, с. 280].
Эти размышления перекликаются с мыслями самого Достоевского, изложенными им в статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя» за 1873 год): «Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы <…> немедленно требуете от нее такой стойкости, такой зрелости убеждений, какой не было даже у отцов, а теперь менее чем когда-нибудь есть» [2, т. 21, с. 133].
Герои Достоевского попадают под влияние «извращенных идей», не имея еще ни «стойкости», ни «зрелости суждений». Так, например, Ипполит говорит: «Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и возвещения истины» [2, т. 8, с. 247].
Задаваясь вопросом, кто виноват, что идеал молодых людей «так уродлив» [2, т. 24, с. 52], писатель не обвиняет молодое поколение, помня о том, что и сам, как и другие петрашевцы, в свое время «заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма», которые казались им «в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими» [2, т. 21, с. 130].
По мнению К. А. Баршта, существуют три экзистенциальных выхода из «подросткового состояния»: «1) прохождение жизни как страданий и поиска истины («странничество»), 2) отказ от поиска истины и сознательное погружение в быт («мещанство»), 3) самоубийство» [1, с. 13].
Каждый названных «несовершеннолетних» героев романа выбирает свой «выход»: Бурдовский, пораженный нравственным превосходством князя, продолжает поиск истины; смертельно большой Ипполит предпринимает попытку самоубийства, что, по словам К. А. Баршта, обозначает «тупик в подростковом развитии жизненного пути героя, не обретшего благодати и не нашедшего смысл жизни» [1, с. 13]; Докторенко, равнодушный к добру и злу, использует свои убеждения лишь для достижения материальной выгоды.
Несмотря на различие характеров и жизненных установок, эти герои безусловные предшественники Аркадия Долгорукого – главного героя романа «Подросток». Состояние «подростковости» Аркадия писатель связывает, прежде всего, с нравственным ростом: «Я бы назвал его подростком, если б не минуло ему 19-ти лет. В самом деле, растут ли после 19 лет? Если не физически, так нравственно» [2, т. 16, с. 77].
Сам герой часто называет себя подростком: «Да, я жалкий подросток, я сам не знаю поминутно, что зло, что добро» [2, т. 13, с. 217]. В данном случае возраст героя имеет принципиальное значение: в комментариях к роману указано, что «двадцать лет как исходный возраст зрелости в Библии отмечается неоднократно <…>. Критерий же человеческой зрелости в источниках Ветхого Завета связывается с обретением знания “что добро, что зло”» [2, т. 17, с. 276].
Аркадий Долгорукий – подросток, так как он находится на определенном этапе пути к истине. В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский подчеркивал, что в его романе «дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком. <…> Все это выкидыши общества, “случайные” члены “случайных” семейств» [2, т. 22, с. 8].
Тема «случайного семейства», лишь намеченная в «Идиоте», по словам М. В. Строганова, «впервые <…> сформулирована в романе “Подросток”» [7, с. 177]. Достоевский был убежден, что «случайность» современного русского семейства заключается в утрате «отцами» главной идеи, в которую верили и следовали бы ей сами и научили верить и следовать своих детей.
Поиски истины, обретение знания, что есть добро и зло, осложняются для Аркадия тем, что он сам рос в «случайном семействе». Унижения, перенесенные им в детстве, способствуют формированию комплекса «человека из подполья». Стремление стать богатым, как Ротшильд, и могущественным – все это не что иное, как стремление бросить вызов обществу, в котором ему неуютно и тягостно. Со временем эти идеи героя претерпевают существенные изменения от общения с людьми и, в первую очередь, с отцами: духовным и реальным – Макаром Долгороуким и Версиловым. В отличие от многих «современных отцов», у Версилова есть точка опоры: «нравственный императив», способность пожертвовать собой ради идеала. Макар – воплощение высшей гармонии, благообразия и благодушия.
Завершая работу над «Подростком», Достоевский предполагал закончить роман словами: «Знаю, нашёл, что добро и зло» [2, т. 16, с. 63], однако находит для финала другую фразу: «Из подростков созидаются поколения» [2, т. 13, с. 443].
Вопрос о том, принадлежит ли Алеша Карамазов к героям-подросткам или героям, уже обретшим «духовную зрелость», представляется достаточно интересным. В частности, К. А. Баршт считает, что Алёша относится к тем героям Достоевского, которые, минуя подростковый период, из детства вышли сразу в духовную зрелость [1, с. 20]. В этом смысле Алёша близок князю Мышкину, в котором «детская благодать и благодать сознательная (религиозная) оказались объединены в одно целое» [1, с. 15]. Несмотря на сходство во всем нравственном облике, герои заметно отличаются друг от друга. Отчасти это объясняется тем, что Мышкин уже созрел как личность, тогда как Алёша еще формируется.
Нами упоминалось, что Достоевский крайне редко и очень избирательно использовал слово подросток для характеристики своих героев, однако в романе «Братья Карамазовы» подростком он называет именно Алёшу: «Алёша был в то время статный, краснощёкий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцатилетний подросток» [2, т. 24, с. 24]. Заметим, что ни Ракитина, ни Калганова, близких Алёше по возрасту, Достоевский подростками не называет.
На наш взгляд, образ Алёши генетически связан с образом другого подростка Достоевского, Аркадия Долгорукого. Во-первых, подобно Аркадию, Алёша тоже член «случайного семейства». После смерти матери, с трехлетнего возраста, он жил сначала в доме генеральши, после ее смерти – в доме Ефима Павловича Поленова, а после смерти своего благодетеля «попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал» [2, т. 24, с. 20]. Во-вторых, оба героя еще не достигли возраста гражданского совершеннолетия, то есть они растут, прежде всего, не физически, а нравственно. В-третьих, они целомудренны, что для писателя в определении их «подростковости» имеет принципиальное значение. Наконец, их роднят воспоминания детства, вызывающие горькие чувства.
Однако, в отличие от Аркадия, Алёша с детства имел «дар возбуждать к себе особенную любовь» [2, т. 24, с. 19]. В доме Ефима Петровича Поленова его считали «как бы за родное дитя» [2, т. 24, с. 19]. Да и сам Алёша любил людей. Аркадий же признавался, что «в двенадцати лет <…>, то есть почти с зарождения правильного сознания» [2, т. 13, с. 72] он стал не любить людей. Идея Аркадия стать Ротшильдом – идея «подпольного человека». Идея Алёши – идея религиозная, отделяющая добро от зла, указывающая, что делать и к чему стремиться. Достоевский подчеркивает, что Алёша имел равную возможность для выбора веры или безверия, а, следовательно – добра и зла. «Едва только он, – говорит писатель, –<…> поразился убеждением, что бессмертие и Бог существует, то сейчас же <…> сказал себе: “Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю”. Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошёл в атеисты и социалисты» [2, т. 24, с. 25].
Закономерными кажутся испытания, соблазны и искушения, которые Алёше еще предстоит пережить: по указанию старца Зосимы он должен покинуть монастырь и «пребывать в миру», который мнимыми ценностями заставлял бы нравственно расти и не допускать успокоения. Именно поэтому, с нашей точки зрения, Достоевский называет своего героя подростком .
Tver State University The Department of history of Russian literature
The article deals with the features of "adolescent" images in Fyodor Dostoevsky's novels, The Idiot , The Adolescent (A Raw Youth) , The Brothers Karamazov , in the context of a debate on the younger generation that took place in the 1870s periodicals.