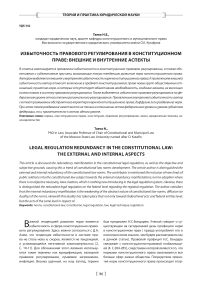Избыточность правового регулирования в конституционном праве: внешние и внутренние аспекты
Автор: Таева Н.Е.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (46), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проявление избыточности в конституционно-правовом регулировании, а также объ- ективные и субъективные причины, вызывающие такую тенденцию развития норм конституционного права. Автором выделяется внешняя и внутренняя избыточность норм конституционного права. К проявлениям внешней избыточности автор относит включение в предмет конституционного права новых групп общественных от- ношений; принятие норм, в которых отсутствует объективная необходимость, создание законов, не вносящих ничего нового в систему правового регулирования. Также выделяется избыточное правовое регулирование на фе- деральном уровне относительно регионального регулирования. Проявлением внутренней избыточности автор считает размывание абстрактного характера норм конституционного права, диффузию (или раздвоение) норм. При этом такое раздвоение имеет место не только в отношении актов федерального уровня и уровня субъектов федерации, но и применительно к актам одного уровня.
Нормы, конституционное право, конституция, правовое регулирование, закон, юридическая техника, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/14120172
IDR: 14120172 | УДК: 342
Текст научной статьи Избыточность правового регулирования в конституционном праве: внешние и внутренние аспекты
Важной тенденцией развития норм является избыточность в сфере конституционно-правового регулирования. Здесь можно согласиться с Д.А. Азми, что тенденция избыточности в системе права не столь нова и, скорее, является не тенденцией, а усиливающейся негативной закономерностью [2. С. 10-11]. Для обозначения этого явления используются такие термины как юридификация, излишнее правовое регулирование, правовое загрязнение, инфляция. Весьма удачный, на наш взгляд, термин был предложен Н.С.Бондарем. Ученый говорит о существующем на сегодняшний день профиците норм в конституционном прав ( правда употребляет его в несколько ином смысле, чем будем рассматривать мы в данной статье). Правовой профицит Н.С. Бондарь связывает с конституционно-правовой глобализацией [4. С.284-285], следствием которой является то, что нормами конституционного права охватывается все больше сфер жизни общества. Посредством принятия норм конституционного права происходит втор- жение государства в социальную, экономическую и, в особенности, в политическую сферы. То есть в данном случае актуализируется проблема определения предмета конституционного права, так как речь идет об объеме отношений, входящих в сферу регулирования данной отрасли.
Если же сводить профицит к избыточности, перегруженности законодательства, то здесь можно выделить два аспекта данной проблемы. Во-первых, следует вести речь о внешней правовой избыточности, суть которой заключается в том, что одни и те же отношения регулируются множеством норм, то есть присутствует заурегулированность, перенасыщенность законодательства. Вторым аспектом профицита является так называемая внутренняя избыточность, которая заключается в размывании абстрактного характера и диффузии норм конституционного права.
Внешняя правовая избыточность
Внешняя правовая избыточность имеет отношение к форме выражения нормы, в первую очередь, нормативному правовому акту, и имеет разнообразные проявления. Прежде всего, профицит в указанном аспекте означает создание большого числа правил, в которых отсутствует объективная необходимость. Современный законодатель, принимая тот или иной нормативный правовой акт, стремится учесть все ситуации, которыетак или иначе проявляются на практике. Зачастую принятие новых норм служит конкретной сиюминутной цели без какого-либо прогнозирования не только потенциала ее реализации, но и «вне системы» других норм права. В результате мы видим огромные по своему объему конституционно-правовые акты, детально устанавливающие все возможные варианты «развития событий». Любая проблема, возникающая при применении нормы конституционного права, приводит к принятию новых норм, ее конкретизирующих, дополняющих, развивающих. Перегруженность законодательства выражается и в том, что в нормативных актах часто закрепляются правила, в которых в принципе отсутствует потребность: нефункциональные термины, определения, иные конструкции, которые делают текст непонятным, неудобочитаемым для рядового пользователя правовой информации [ 8. С. 250]. Так, Лексин И.В., анализируя законодательство субъектов федерации в сфере административно-территориального устройства называет такие проявления избыточности правового регулирования как нормативное обозначение того или иного города в качестве исторического центра субъекта федерации; включение в нормативные акты субъектов федерации их географических характеристик; упоминание в актах субъектов федерации советского законодательства, кото- рым были учреждены данные субъекты федерации и другие [ 8. С. 250-252].
Одним из проявлений профицита норм в вышеуказанном понимании можно считать и избыточное правовое регулирование на федеральном уровне по вопросам совместного ведения. В.Д. Зорькин пишет, что в данном случае имеет место нарушение правового баланса в сфере федеративных отношений, недостаточно учитывается федеративная природа российского государства, отмечая, что это не только не согласуется с конституционной природой федеративных отношений, но и в известной степени влечет за собой нарастание на региональном уровне «иждивенческих настроений» [7. С. 1-5].К примеру, в части 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»дан перечень полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, который включает 100 пунктов. Причем, данный перечень постоянно меняется, появляются новые пункты, исключаются другие.
Внешняя правовая избыточность норм конституционного права–это втом числе принятие«пустых» законов, нормы которых не вносят ничего нового в систему правового регулирования либо законов, содержащих общие декларативные положения. Примерами таких законов, с нашей точки зрения, являются ФЗ от 13 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (представляющий собой, по сути, компиляцию уже нормативно урегулированных форм парламентского контроля), ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (содержит перечень прав и свобод соотечественников, который уже определен в Конституции РФ) и другие. Принятие такого рода законов усиливает тенденцию профицита, ведь «пустые» законы требуют их дальнейшей конкретизации. В результате мы наблюдаем два последствия. Во-первых, «уход» в подзаконное регулирование. Наполнение смысловым содержанием законов, состоящих по большей части из декларативных положений, пишет С.В. Нарутто, вызывает необходимость принятия многочисленных подзаконных ведомственных актов [10. С. 9-10]. Во-вторых, начинают приниматься законы, вносящие поправки в уже действующие законы, которые изначально не отражали особенностей регулирования той или иной сферы. Наращивание общего количества актов расширяет диапазон возможностей неоднозначных и несогласованных юридических конструкций [10.С. 10].
Профицит ведет к негативным последствиям в реализации норм гражданами, их объединениями и другими субъектами конституционно-правовых отношений, значительно затрудняет ее. В работе «Социальные основания права» Г.В.Мальцев называет две основных причины переизбытка норм. Во-первых, это субъективная причина, которая кроется в желании законодателя при помощи нормативного регулирования быстро решать политические и социальные задачи. Г.В.Мальцев пишет: «Еще библейские пророки осуждали манеру «законников» нагромождать «правило на правило, закон на закон», хитроумно плести сети, в которых запутываются простые люди. До сих пор не удалось изжить эту манеру, хотя прошли тысячелетия. Тот, кто приставлен к законам, склонен видеть в них источник своей силы, способ быстрого решения социальных и политических задач, поэтому, сталкиваясь с трудными проблемами, он первым делом берется за перо, чтобы «начертать» новый закон в надежде, что все остальное к этому приложится» [9. С. 743-745]. Законодатель легко утрачивает чувство меры при определении объемов законодательства, увлекается излишней детализацией, игнорирует самоочевидность некоторых положений, не может избежать соблазна наставлять, инструктировать людей по всяким поводам вплоть до мелочей.
Во-вторых, объективная причина. Объем законодательства зависит от сложности общественных отношений. Усложнение социальных связей в условиях информационного общества приводит к увеличению объемов правового регулирования. «Если законодатель теряет контроль за соответствующими процессами, способность управлять ими, – пишет Г.В.Мальцев, – он скорее всего получит переизбыток юридических норм со всеми вытекающими отсюда последствиями» [9. С. 744].
Обе указанных причины представляются особенно актуальными для норм конституционного права. Переизбыток норм создает видимость того, что законодатель предоставил на выбор множество вариантов поведения, а в действительности усилил вероятность случайного правоприменения, создал ситуацию «нормативной инфляции»» [9. С. 745].Как итог – система правового регулирования функционирует неэффективно.
Говоря о профиците норм конституционного права, нельзя не затронуть проблему их недостатка или дефицита. Так, дефицитом норм считают отсутствие тех или иных законов, которые необходимо принять, но они до сих пор не приняты. В качестве примера здесь обычно приводят до сих пор не принятый федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании РФ. Вместе с тем, дефицит норм нельзя понимать так упрощенно – как отсутствие тех или иных нормативных актов. На наш взгляд, следует согласиться с Г.В. Мальцевым, который считал, что дефицит норм – это отсутствие притока принципиально новых юридических решений, юридический застой в обществе» [9. С. 745]. Дефицит конституционно-правовых норм в таком понимании в совокупности с переизбытком (профицитом) норм, не имеющих первичного значения в системе правового регулирования, ведет к кризису системы правового регулирования в целом. Преодоление внешней избыточности возможно через использование технико-юридических приемов. Например, создание отсылочных и бланкетных норм; правильное сочетание в конституционно-правовых актах норм различных видов и, в первую очередь, норм общерегулятивных и конкретнорегулятивных. Не обязательно каждый нормативный акт начинать с перечня дефиниций или принципов, аналогичные которым уже закреплены в другом нормативном акте; вместо простых норм использовать в правовом регулировании абстрактные сложные нормы; свести к минимуму дублирование норм. Одним из выходов здесь традиционно является кодификация либо принятие рамочных законов; мониторинг и экспертиза законодательства. Однако, и здесь есть опасность принятия законов, в которых отсутствует объективная необходимость. Например, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» был принят с целью унификации законодательства субъектов федерации в этой сфере. Так ли уж необходима такая унификация в федеративном государстве.
Внутренняя правовая избыточность
Внутренняя избыточность относится к сущности и содержанию нормы. Под внутренней избыточностью понимается, прежде всего, размывание абстрактного характера нормы, превращение норм конституционного права из абстрактных правил поведения в подробные, детальные инструкции, при этом часто не доступные для понимания рядовых граждан. С.А. Авакьян справедливо говорит о том, что любой закон должен быть обращен к двум адресатам: во-первых, к обычному гражданину, во-вторых, к исполнителю. Для обычного гражданина закон является средством познания материи, своего места в соответствующих отношениях. Однако, это совершенно не учитывает законодатель. «Разрастаются» и все более детализируются даже законы, которые традиционно были достаточно краткими и небольшими по объему: о политических партиях, о гражданстве, о правовом положении иностранных граждан, о публичных мероприятиях. И уж совершенно не доступными для понимания рядовых граждан стали избирательные законы. Относительно них С.А. Авакьян отмечает, что в этих актах чисто законодательная материя составляет не более 30 процентов, все остальное – это инструкции (чаще всего процедурные). Их надо читать тем, кто имеет непосредственное отношение к соответствующим избирательным действиям [1. С. 3-12]. В качестве примера такой «трудноусвояемой» обычными гражданами, не имеющими специального образования, можно привести статью 89 ФЗ от 22 февраля 2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», закрепляющую методику пропорционального распределения депутатских мандатов.
Другим проявлением внутренней избыточности является диффузия (или «раздвоение», дублирование) норм в конституционном праве [12]. Так, прослеживается процесс дублирования общефедеральных норм права на уровне субъектов Российской Федерации. В результате мы наблюдаем, как нормы, содержащиеся в федеральных нормативных правовых актах, дословно воспроизводятся в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Например, в ст. 13 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» названы обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума: «Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения». Вместе с тем, в законодательстве практически всех субъектов Российской Федерации о референдумах субъектов и о местных референдумах имеются статьи, также устанавливающие обстоятельства, в которых референдум не назначается и не проводится. Так, в ст. 4 Закона Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай» содержится следующая норма: «Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения». Как говорится, найдите хотя бы одно отличие. Это положение полностью дублирует указанную выше ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Такая же картина наблюдается при обращении к законам других субъектов. Например, ст. 6 Закона г. Москвы от 18 апреля 2007 г. №11 «О референдумах в городе Москве», ст. 8 Закона республики Бурятия от 29 декабря 2005 г. № 1449-III «О референдуме Республики Бу- рятия», ст. 11 Закона Республики Башкортостан от 26 ноября 2007 г. № 487-з «О референдуме Республики Башкортостан», ст.10 Закона Республики Татарстан от 9 августа 2003 № 33-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан» и др. Практически дословно в законодательстве субъектов РФ воспроизводятся нормы ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», касающиеся принципов проведения референдумов – принцип всеобщего, равного, прямого волеизъявления при тайном голосовании; принцип свободного и добровольного участия в референдуме (ст. 3 ФЗ). Полностью дублируются нормы, закрепляющие, что в референдуме могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. При этом не имеют права участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ст. 4 ФЗ).
В законах некоторых субъектов Российской Федерации о публичных мероприятиях полностью воспроизводятся нормы-дефиниции, закрепляющие определения понятий «публичное мероприятие», «собрание», «митинг», «шествие», «демонстрация», «пикетирование», атакже нормы о сроках подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. Например, в законах г. Москвы, Республики Ингушетия, Республики Алтай, Алтайского края. Справедливости ради надо отметить, что большинство субъектов федерации пошли по другому пути. Во избежание дублирования норм федерального законодательства в них приняты законы, регулирующие лишь порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования). Это, например, Республика Саха(Якутия), Северная Осетия Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Красноярский край, Амурская область, Магаданская область, Орловская область, Саратовская область, Томская область. В Законе Республики Татарстан от 16 января 2006 г. «О порядке подачи уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан» прямо установлено, что «в настоящем Законе используются понятия в том же значении, что и в Федеральном законе» (ст. 2). Аналогично урегулирован вопрос в Республике Хакасия, Тюменской области, Еврейской автономной области.
Региональные законы, пишет И.В.Лексин, перенасыщены повторами. Например, в законах большинства субъектов федерации содержатся положения о порядке изменения границ между субъектами, хотя данному вопросу посвящены положения Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. Причем субъекты федерации здесь не вносят ничего нового в правовое регулирование данного вопроса, а воспроизводят в своих законах соответствующие положения названных актов [8. С. 250-251].
Раздвоение норм имеет место и на уровне учредительных актов. Конституции республик в составе Российской Федерации содержат одинаковое с федеральной Конституцией изложение прав, свобод и обязанностей граждан. Так, нормы Конституции Российской Федерации о принципах правового статуса личности (равноправия граждан, неотчуждаемом характере прав и свобод личности); о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина повторяются в Конституциях и Уставах субъектов Российской Федерации. Например, глава 1-2 раздела 2 Конституции Республики Адыгея; раздел 2 Конституции Республики Алтай; глава 2 Конституции Республики Башкортостан; глава 2 Конституции Республики Коми практически полностью воспроизводят содержание главы 2 Конституции Российской Федерации. Практически все основные законы субъектов РФ закрепляют положения о республиканской форме правления, дают характеристику государства как демократического, правового, социального. По аналогии с российской Конституцией конституции и уставы субъектов РФ провозглашают примат норм международного права. В целом они дословно воспроизводят основополагающие принципы конституционного строя, закрепленные в федеральной Конституции [6. С. 57-58].
Дублирование (раздвоение) в последнее время становится характерным и для норм, принимаемых на одном уровне (федеральном или субъекта федерации). Как правило, здесь мы имеем дело с нормами, содержащимися в акте общего характера и акте специального характера. Такими «раздвоенными» нормами особенно изобилует избирательное законодательство (положения о полномочиях избирательных комиссий, о наблюдателях, порядке составления списков избирателей, правилах ведения предвыборной агитации и другие).
В теории права дублирование норм рассматривается часто как дефект правового регулирования. Причем выделяют два вида такого дублирования: простое дублирование , при котором смысл нормы и ее текст совпадают; смысловое дублирование , когда нет текстового повторения нормы, но смысл норм идентичен. В приведенных выше примерах дублирования тексты статей конгруэнтны, они полностью совпадают при их «наложении» друг на друга. Иначе говоря, статьи и здесь имеет место простое дублирование. Поэтому возникает закономерный вопрос: при конгруэнтности статей мы имеем дело с одной нормой права или это все-таки разные нормы? Ответ на этот вопрос кроется, на наш взгляд, в выяснении того, что является объектом правового регулирования в каждом случае. Общественные отношения, которые регулируются дублирующими нормами, «не раздваиваются».
Следовательно, объект регулирования двух одинаковых текстуально, но принятых на разных уровнях государственной власти норм – совпадает. Кроме того, как известно, статья нормативного акта и норма права – не одно и то же. То есть речь идет об одной и той же норме права, которая воспроизводится еще раз в нормативном акте субъекта Российской Федерации (или актах одного уровня), а имеются две статьи, две формулировки, которые выражают одну и ту же норму. Именно по этой причине мы считаем, что диффузия является проявлением внутренней избыточности. Если мы удалим из системы правового регулирования избыточную формулировку, то система не потерпит изменения. В законодательной практике это будет характеризоваться как отмена. Между тем непосредственно отмены нормы не произойдет, из текста нормативного акта будет удален лишь ее дублирующий текст. Сама же норма останется в системе [3. С. 216].
Как следует оценивать диффузию: отрицательно или положительно? В этом явлении, на наш взгляд, есть и плюсы и минусы. Минусы очевидны. Это перегружает законодательство, делает его громоздким. Так, Н.А. Власенко считает, что дублирование отрицательно сказывается на развитии системы права [5.С. 24].Повторение норм ведет к тому, что законодательство становится громоздким, неоправданно увеличивается количество нормативных правовых актов и их объем. Кроме того, дублирование нормы закона федерального уровня в законодательстве субъекта приводит к снижению значения федерального законодательства. Возможны и правоприменительные проблемы, которые могут и возникают в судебной практике органов конституционного контроля. Здесь уместно вспомнить небезызвестное дело с законом Челябинской области о транспортном налоге, который рассматривался в Уставном Суде Челябинской области, а впоследствии проверялся на соответствие Конституции РФ Конституционным Судом РФ (речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 декабря 2013 г. № 26-П). Причем суды пришли к прямо противоположным решениям. Решение этой проблемы видится, прежде всего, в систематизации законодательства и, в частности, одном из ее видов – кодификации. Кодификация позволит устранить дублирование норм, унифицировать законодательство. Так, в настоящее время остро стоит вопрос о кодификации избирательного законодательства, миграционного законодательства, где наиболее сильно выражена диффузия норм. В то же время диффузия норм может и положительно влиять на реализацию норм и, в свою очередь, на правоприменение. Ведь если бы не было дублирования нормы в законодательстве субъекта РФ или акте специального характера, это означало бы необходимость постоянного обращения правоприменителя к законодательству Российской
Федерации или акту общего характера, в том числе и посредством бланкетных норм.
Делая вывод относительно избыточности правового регулирования в конституционном праве, согласимся с мнением теоретика А.И. Овчинникова, который верно отмечает, что в познании бесконечного многообразия социальной жизни человеческий разум ограничен и надо признать, что нельзя создать систему правил на все времена и все случаи жизни. Получается замкнутый круг: правила применения правил также требуют применения и новых правил. В результате создания казуистичных норм мы не облегчаем правоприменение, а наоборот усложняем его, так как правоприменитель вынужден «втискивать» тот или иной казус в «прокрустово ложе» нормы [11.С. 109].
Список литературы Избыточность правового регулирования в конституционном праве: внешние и внутренние аспекты
- Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 8.
- Азми Д.А. Тенденции развития системы права и системы законодательства в Российской Федерации // Адвокат. 2016. № 10. С. 9-16
- Альчуррон К.Э., Булыгин Е.В. О понятии правового порядка. В кн.: «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм / под ред. Е.Н. Лисанюк. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2013.380 с.
- Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России М.: Норма, 2011. 544 с.
- Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы советского права // Правоведение. 1991. № 3. С. 21-26