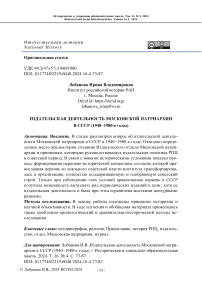Издательская деятельность Московской патриархии в СССР (1940-1980-е годы)
Автор: Лобанова И.В.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассмотрен вопрос об издательской деятельности Московской патриархии в СССР в 1940-1980-е годы. Отведено определенное место предыстории создания Издательского отдела Московской патриархии и принципам, которыми руководствовалась издательская политика РПЦ в советский период. В связи с новыми историческими условиями показан процесс формирования церковно-исторической концепции, согласно которой православная церковь из лояльного советской власти института трансформировалась в организацию, полностью поддерживающую и одобряющую советский строй. Только при соблюдении этих условий православная церковь в СССР получила возможность выпускать ряд периодических изданий и книг, хотя ее издательская деятельность и была при этом ограничена жесткими цензурными рамками.
Историография, религия, православие, история рпц, издательство, отдел, московская патриархия, журнал
Короткий адрес: https://sciup.org/149146017
IDR: 149146017 | УДК: 94:2(47+57):1940/1980 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-4-73-87
Текст научной статьи Издательская деятельность Московской патриархии в СССР (1940-1980-е годы)
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences Orcid id:
Введение. Советский период истории Русской Православной Церкви (РПЦ) изучен в настоящее время достаточно подробно. В работах О.Ю. Васильевой, М.В. Шкаровского, А.Н. Кашеварова, В.А. Алексеева, М.И. Одинцова, Т.А. Чума-ченко, Н.А. Кривовой и других современных историков освещены важнейшие аспекты существования церкви в условиях атеистического советского строя. В основном исследователей этого периода церковной истории привлекает тема цер- ковно-государственных отношений, но в последние годы появляются также исследования, посвящённые и другим проблемам церковной жизни. Так, издательской деятельности Московской патриархии посвящена уже довольно обширная литература. В первую очередь следует назвать работы А.Н. Кашеварова, в которых содержатся сведения о состоянии церковной периодики в начале XX века, судьбах церковной печати в первые годы советской власти, о церковных изданиях довоенного времени и особенностях издания церковной литературы в 1940-1980-е годы. Кашеваровым также прослежена история издательской деятельности РПЦЗ, начатая монашеским братством преподобного Иова Почаев-ского, которое существовало в 1923–1946 гг. на территории Словакии, и продолженная обителью Пресвятой Троицы в Джорданвилле (США). К ним примыкают исследования М.Г. Дымовой и М.В. Новак, в которых также исследуются различные вопросы православной печати в США и Канаде.
Типологические особенности отечественной церковной периодики рассмотрены в диссертационном исследовании В.А. Родченко. Изданию богослужебной литературы в СССР и в постсоветский период посвящена работа Л.П. Медведевой. История создания «Богословских трудов» освящена в статье Е.С. Полищук. Д.Г. Добыкиным и Н.А. Тарнакиным опубликована целая серия статей, в которых даётся подробный анализ исследований, посвящённых различным проблемам библейской критики и текстологии на страницах «Журнала Московской Патриархии» и «Богословских Трудов». А.А. Алешиным проанализированы публикации в «Журнале Московской патриархии» за 1943-1948 гг., посвящённые проблемам духовного образования. С.Л. Фирсовым прослежено формирование новой церковно-исторической концепции на примере освещения в церковной печати биографии и исторической роли патриарха Тихона.
Обсуждение. Советская власть боролась с религией в СССР как решительно, так и успешно. К началу Великой Отечественной войны у Русской православной церкви (РПЦ) не осталось ни учебных заведений, ни периодических изданий, ни типографий для «религиозной пропаганды». И вдруг в самый разгар тяжелейшей войны, в 1943 г., несмотря на слабую практическую базу, когда не осталось ни учебных заведений, ни периодических изданий, ни типографий для «религиозной пропаганды», РПЦ начинает издавать собственный ежемесячный журнал, официально разрешенный государством. В «Журнале Московской Патриархии» (ЖМП) печатаются послания и указы патриарха, его официальные обращения и речи, отчеты о его поездках, встречах с главами и представителями других церквей. Помимо этого, в ЖМП иногда появлялись статьи на исторические темы, которые, конечно же, нельзя назвать научными: поскольку цель их публикации была просветительской, написаны они были в популярном стиле.
Кроме «Журнала Московской Патриархии» в СССР с 1946 г. начинает ежемесячно издаваться и «Православный вiстник» на украинском языке. В нем так же, как и в ЖМП, помимо информации о текущей жизни православной церкви периодически публикуются статьи общественно-политического, богословского и церковно-исторического характера. В Берлине выходит «Голос православия» на немецком языке, в Париже – «Вестник патриаршего Западноевропейского экзархата» на русском и французском языках, в Будапеште – «Церковная хроника» на венгерском языке и в Оттаве – «Канадский православный вестник» на украинском и английском языках.
Подобные действия, несомненно, создавали для западного наблюдателя видимость благополучия РПЦ в Советском Союзе. При этом рядовые верующие от большинства этих изданий не получали никакой пользы, а Московская патриархия и вовсе терпела ущерб. Известный церковный диссидент и сотрудник Издательского отдела Московской патриархии Владимир Степанов (Русак) утверждал: «Каждый номер английского варианта "Журнала Московской Патриархии" обходится редакции с убытком в 8–10 тыс. рублей. Он совершенно нерентабелен. Зачем нам нужно такое издание? Или в Патриархии и издательском отделе лишние деньги? Или у нас нет необходимости издавать что-либо другое? Теряем средства – приобретаем пропагандистские дивиденды. Это чисто пропагандистское издание» [4, с. 33].
Действительно же нужный пастве РПЦ журнал на русском языке почти не доходил в то время до верующих, потому что треть тиража журнала редакция бесплатно высылала за границу, в Совет по делам религий и другие государственные учреждения. В результате московские храмы получали только по 10 экземпляров журнала, сельские приходы – ни одного или в лучшем случае один. Тираж в ЖМП не указывался, потому что он был компрометирующе для властей мал: от трех тыс. экземпляров в самом начале до 15 тыс. на 1977 г., по словам Степанова (Русака).
В 1945 г. при Московской патриархии был создан Издательский отдел. При этом собственную типографию церкви завести было не позволено, хотя вроде бы существовала устная договоренность со Сталиным в 1944 г. о разрешении таковой. Владимир Степанов (Русак) утверждал, что в 1945 г. (год создания Издательского отдела) патриархией было даже закуплено оборудование для типографии, которое пролежало на территории Новодевичьего монастыря до 1960 г., когда редакция обратилась в Совет по делам религий с просьбой помочь ликвидировать это оборудование, как негодное. Степанов (Русак) считал, что в таком контексте само наименование отдела «издательским» является насмешкой. «Фактически – это редакционная группа. Какой же он издательский, если у него нет типографии и он ничего не издает, а только проводит редакционную обработку материалов» [4, с. 15].
За все годы существования Издательского отдела Московской патриархии помимо богослужебной литературы и календарей им было издано катастрофически мало книг. Причины такого положения дел становятся ясны, если обратиться к предыстории создания этой структуры. Самым первым после долгого перерыва церковным изданием, еще до основания Издательского отдела, стал вышедший из печати в 1942 г. сборник «Правда о религии в России». По словам Владимира Степанова (Русака), «первоначально эта книга планировалась, говорили, к изданию светским издательством, но в самый последний момент "инициативу" издания, для пущей авторитетности, передали Церкви» [4, с. 7].
Директор Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС П.К. Курочкин в одном из своих трудов непреднамеренно раскрыл впоследствии смысл этой акции советского правительства. Он писал: «В книгах "Правда о религии в России" (изд. Московской патриархии, 1942) и "Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов" (изд. Московской патриархии, 1943) нашла свое отражение новая политическая ориентация русской православной церкви, ее патриотическая позиция в годы Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. «Правда о религии в России» содержит послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» митрополита Сергия от 22 июня 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны. Редакционная статья «О свободе религиозного исповедания в России» посвящена становлению новых церковно-государственных отношений. В ней подвергаются критике утверждения идеологов фашизма и прислужничавших им православноцерковных эмигрантов о том, что перемены в положении русского православия, вызванные Октябрьской революцией и победой социализма в СССР, означают гонение на религию и церковь» [2, с. 20-21].
Иными словами, эта книга должна была показать Западу, что церковь в СССР чувствует себя прекрасно и не нуждается в освободительном крестовом походе против большевизма. А также это было посланием для огромного количества верующих, живущих в СССР, которое гласило: церковь в этот трудный час с Отечеством! Она поддерживает советское государство, забыв прежние распри и объединившись с ним против общего врага. Очевидно, партийное руководство страны всерьез опасалось, что без этих разъяснений настроения народа могут перебродить в крепкое недовольство безбожной властью, приняв войну за наказание прегрешений большевиков.
«Гитлеровский Молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч на "защиту религии" и "спасения" якобы поруганной веры, - писал в своем послании в ноябре 1941 г. митрополит Сергий (Страгородский). - Но всему миру ведомо, что это исчадие ада старается лживой личиной благочестия только прикрывать свои злодеяния. Во всех порабощенных им странах он творит гнусные надругательства над свободой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы Божьи, бросает в тюрьмы и казнит христианских пастырей, гноит в тюрьмах верующих, восставших против его безумной гордыни, против его замыслов утвердить свою сатанинскую власть над всей землей. Православные, бежавшие из фашистского плена, поведали нам о глумлении фашистов над храмами. Невольно глаза заполняются слезами у русских людей при вестях о том, как в православных храмах расстреливают ни в чем неповинных матерей и стариков, как храмы превращаются в конюшни. Лютый враг Гитлер не только устраивает гонение на христианство, но хочет истребить славянские народы разорениями, пожарами, грабежами, пытками невинных, издевательством и бесчинством, а оставшихся в живых сделать своими рабами. Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам, с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за христианской культурой. Вот почему прогрессивное человечество объявило Гитлеру священную борьбу за христианскую цивилизацию, за свободу совести и веру» [3, с. 8-9]. И эти слова владыки Сергия как нельзя более кстати пришлись к задаче актуального политического момента.
В пользу политической подоплеки внезапного издания сразу двух сборников церковных документов говорит и тот факт, что в сложное военное время эта книга была издана 50-тысячным тиражом сразу на нескольких иностранных языках. А.Н. Кашеваров, излагая историю создания сборника, дополняет картину следующими важными деталями: «По линии Министерства иностранных дел СССР экземпляры были переданы экзарху Московской Патриархии митрополиту Вениамину (Федченкову), которому предстояло не только разослать книги нужным Москве адресатам, но и получить от них письменные отзывы. Например, владыка передал книги госсекретарю США Кордэну Хэллу, вице-президенту США Генри Уоллесу, мэрам нескольких городов. Они были посланы также епископам и духовенству американской Церкви, приходам Московской Патриархии и "карловча-нам". О политической важности этого мероприятия для советского руководства можно судить уже по тому, что письменный отчет владыки Вениамина, предназначенный для патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, лег на стол В.М. Молотову для дальнейшей обработки» [1, с. 192].
После «Правды о религии в России» в следующем, 1943 г. вышла в свет еще одна книга: «Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. Послания к клиру и верующим Русской православной церкви». А.Н. Кашеваров пишет, что выход этого сборника документов был приурочен к приезду в Москву осенью 1943 г. делегации Англиканской Церкви, т.е. тоже определялся не внутренней потребностью православной церкви, а политическими интересами советского государства.
Нужно особо отметить, что в своих посланиях православные иерархи постоянно обращались к истории. Очевидно, советской власти это тоже показалось удачным приемом. «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона, - говорилось в послании митрополита Сергия (Страгород-ского). - Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу». Митрополит Сергий предлагал вспомнить «святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину», которые вели в бой «неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг» [3, с. 3-4].
Еще одной опасностью, которую советское правительство пыталось предотвратить с помощью авторитета церковных иерархов, была возможная поддержка гитлеровцев частью духовенства и верующих на оккупированной территории. Немаловажным политическим фактором в сложившейся ситуации оказывалась решительная позиция РПЦ в этом вопросе, которую правительство с помощью своих ресурсов постаралось донести до широких читательских масс в Советском Союзе и до западной аудитории. «Ходят слухи, - говорилось в одном из первых посланий военного времени, с которым патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский) обратился к народу, - которым не хотелось бы верить, будто есть и среди наших православных пастырей лица, готовые идти в услужение ко врагам нашей родины и Церкви, – вместо святого креста, осеняться языческой свастикой. Не хочется этому верить, но, если бы вопреки всему нашлись такие пастыри, я им напомню, что Святой нашей Церкви, кроме слова увещания, вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги» [3, с. 7].
В этих посланиях была затронута также острая и болезненная тема самопровозглашенной украинской автокефалии. Речь шла о Владимиро-Волынском епископе Поликарпе (Сикорском), который после оккупации самовольно назвался архиепископом Луцким и Ковельским, а также главой Православной церкви тех областей Украины, которые были на тот момент захвачены немцами. При этом Поликарп недвусмысленно заявил о своей ненависти к советскому режиму и выразил готовность сотрудничать с немецкими властями, называя их освободителями украинского народа. Митрополит Сергий однозначно оценивал этот поступок как предательство – и гражданское, и духовное: «Выступление Сикорского мне представляется явлением исключительно политического характера, а не церковного. Он и сделал его не по личному своему почину, а по наказу политической партии. Он все время был светским чиновником. При Петлюре он был начальником департамента в министерстве просвещения и после разгрома петлюровцев убежал, подобно многим, в Польшу. Сикорский уж под пятьдесят лет (сейчас ему 65 лет) принял, наконец, священство и монашество, и, вероятно, тоже по наказу политической партии, которая и могла рассчитывать в будущем на его архиерей-ство в своих политических интересах. Сведущие люди говорят, что и в самом деле Сикорский в 1932 г. посвящен был во епископа Луцкого по настоянию властей и именно в угоду партии петлюровцев. Он и держал себя в монашестве и в архи-ерействе как истый петлюровец: хвалился нелюбовью к "москалям", старался говорить только по-украински, избегал совершения служения по-славянски. Православная паства, конечно, чувствовала, что перед ней не архиерей, а партийный политик, притом чуждый заветам православных предков. Поэтому ни любовью, ни авторитетом у православной паствы епископ Поликарп Сикорский не пользовался. Тем же петлюровцем в душе, хотя и не столь откровенным, продолжал быть Сикорский и подчинившись в 1940 году Московской Патриархии» [3, с. 14].
Отчетливо патриотическая позиция высшей иерархии РПЦ была отмечена советским руководством и использована в государственных интересах. В сложившейся политической ситуации церковь должна была снова обрести голос. Но о свободе высказывания речи по-прежнему не было. Самостоятельным политическим игроком православная церковь в СССР стать по определению не могла. В этой ситуации довоенный период советской церковной истории тоже должен был быть переосмыслен, потому что следовало как-то оправдать превращение церкви из врага в соратника и друга советской власти. И этой цели отлично послужила самая первая, созданная в недрах спецслужб и навязанная РПЦ книга «Правда о религии в России».
Спущенная сверху новая концепция церковно -государственных отношений, прописанная в ней, стала программной для церковно -исторической науки советского периода. Церковные ученые сами, хотя и под чутким идеологическим руководством государства, должны были показать на историческом материале, что церковь советской власти вовсе не враг и между ними давно установилось нечто вроде дореволюционной «симфонии» двух властей с поправкой на факт отделения церкви от государства. Также следовало четко обозначить отрицательное отношение РПЦ к православной эмиграции, часть которой хотела и ждала поражения большевиков в Великой Отечественной войне. С этой целью церкви и была вновь разрешена издательская деятельность, использовать которую в чисто церковных интересах дозволялось крайне скупо. В этом и заключался секрет крайне вялой издательской деятельности РПЦ, несмотря на то что в ее руках вроде бы был инструмент для обеспечения верующих хотя бы Библией. Но Священное Писание в Советском Союзе тоже издавалось для представительских целей, а вовсе не для верующих. Не менее половины тех скромных тиражей, что выходили из печати за все время существования Издательского отдела в советском государстве, отправлялось за границу, некоторое количество распределялось по духовным школам, непременно высылалось в Совет по делам религий и уполномоченным на местах. В храмы по уже отработанной схеме попадало: по десять экземпляров в столице и часто ни одного в деревенских приходах.
При этом Издательскому отделу систематически недодавались тиражи, которые оседали в чьих-то руках и карманах. Степанов (Русак) приводит такие цифры: «Каждый номер журнала недодают. Государственная типография недодает более 150 экземпляров. Тираж четвертого номера журнала за 1976-ой год недодан на 500 экземпляров. Настольные календари. В 1961-ом году недодали 100 экземпляров, в 1962-ом – 116, 1963-ем –199, в 1964 – 487, в 1970-ом – 3050 экз.» [4, с. 34]. Особенно показательны размеры недостачи венчиков и молитв для умерших: на 1 млн заказанных экземпляров в 1962-ом году недостача составила 165 тысяч! Это и понятно: товар выгодный, люди все так же умирают и религиозные ритуальные принадлежности по-прежнему в ходу. Но нужно заметить, что редакция Издательского отдела была при этом на хозрасчете, т.е. терпела реальные убытки.
Церковь вынужденно жертвовала миллионы рублей в различные фонды мира, но по той же причине, по которой ей не дозволялось открыть свою типографию, церковь не могла приобрести для духовных школ даже ротаторов: конспекты для учеников академий и семинарий размножались на пишущей машинке. Типографским способом издавались только одобренные Советом по делам религий труды. Следует перечислить их, чтобы вопросы о цели побуждаемой государством издательской деятельности Московской патриархии отпали сами собой:
1942 г. - Правда о религии в России. 458 с.; 1943 г. - Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. Послания к клиру и верующим Русской православной церкви. 100 с.; 1947 г. - Патриарх Сергий и его духовное наследство. 416 с.; Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Слова, речи, послания. Т. 1. 256 с.; 1948 г. - Ко дню церковного празднования 800-летия Москвы. 56 с.; Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания. Т. 1. 248 с.; 1949 г. - Деяния Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви 8–18 июля 1948 года. Т. 1. 448 с. Т. 2. 464 с. (Издано также на франц. яз.); 1950 г. - Русская православная церковь в борьбе за мир. Постановления, послания, обращения, призывы, речи, статьи. 1948–1950. 120 с. (Издано также на англ., нем. и франц. яз.); 1951 г. - Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной литургии. Краткое литургико-прак-тическое пособие для учащихся духовных семинарий. 200 с.; 1952 г. - Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР, посвященная вопросу защиты мира. Загорск, Троице-Сергиева Лавра, 9–12 мая 1952 года. Материалы. 312 с. (издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Слова, речи, послания. Т. 2. 400 с.; Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Защитим Мир! Речи, статьи (1949–1952). 128 с. (издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); 1954 г. - Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения, статьи (1948–1954). Т. 2. 180 с.; Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Речи и проповеди. Т. 3. 487 с.; 1955 г. -
Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. За мир. (Речи, обращения. 1952–1954). 2-й выпуск. 166 с. (издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); 1957 г. - Обращение Священного Синода Русской Православной Церкви ко всем ее чадам, пребывающим в рассеянии и вне ограды Матери-Церкви. 7 с.; Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения (1954–1957). Т. 3. 112 с.; Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Т. 4. 472 с.; 1958 г. - Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский. Речи о мире (1955–1957). 3-й выпуск. 132 с. (издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); Русская Православная Церковь. Устройство, положение, деятельность. 244 с. (издано также на англ., араб., итал., нем. и франц. яз.); 1963 г. - Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения. Т. 4. 236 с.; 1966 г. - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. (К 90-летию со дня рождения). 108 с.; 1969 г. - За мир и сотрудничество между народами. Конференция представителей всех религий в СССР. 13,5 с. / издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); 1972 г. - Поместный Собор Русской Православной Церкви 30 мая – 2 июня 1971 года. Документы, материалы, хроника. 320 с.; 36 с. илл. (издано также на англ. яз.); 1977 г. - Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Москва, 6–10 июня 1977 года. 181 с. (издано также на англ., араб., нем. и франц. яз.); Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения (1957–1977). Т. 1. 456 с.; 1978 г. – Московский Патриархат 1917–1977. 88 с. (издано также на англ. яз.); 1979 г. - 60-летие восстановления Патриаршества. Празднование юбилея 25–29 мая 1978 года. 96 с.; 36 с. илл.; 1980 г. - Русская Православная Церковь. Общ. ред. архиепископа Волоколамского Питирима. 254 с. с илл.; 1982 г. - Львовский Церковный Собор. Документы и материалы. 1946–1981. 224 с. (издано также на англ. яз.); 1983 г. - Успенская Почаевская Лавра. 16 с. с илл.; Грузинская Православная Церковь. 32 с. с илл.; Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Москва, 10–14 мая 1982 года. 230 с. (издано также на англ. яз.); Международная конференция «круглого стола» религиозных деятелей и экспертов по вопросам экономических и нравственных последствий замораживания ядерного оружия (7–9 марта 1983 года). 24 с. (издано также на англ. яз.); 1984 г. - Международная конференция «круглого стола» религиозных деятелей и экспертов по вопросам запрещения использования космического пространства в военных целях – «Космос без оружия» (2–4 апреля 1984 года). 24 с. (издано также на англ. яз.); 1985 г. - Пимен. Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения (1977–1984). Т. 2. 488 с.; Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. К 75-летию со дня рождения – 23 июля 1985 года. 2 с.; Международная конференция «круглого стола» богословов и экспертов на тему «Новые опасности священному дару жизни и наши задачи» (11–13 февраля 1985 года). 24 с. (издано также на англ. яз.); Троице-Сергиева Лавра. Автор-сост.
архимандрит Иннокентий Просвирнин. Общ. ред. архиепископа Волоколамского Питирима. 264 с.; 1986 г. - Московская Духовная Академия и собрание Церковноархеологического кабинета. 48 с.; Международная конференция «круглого стола» религиозных деятелей и ученых-экспертов на тему «Голод, нищета и гонка вооружений. – К новому нравственному порядку внутри стран и между ними» (20–23 мая 1986 года). 24 с. (издано также на англ. яз.).
После ознакомления с перечнем всех изданных Московской патриархией в советские годы книг можно полагать, что православная церковь – это миротворческая общественная организация вроде благотворительного фонда. Как можно понять из этого списка, за все годы советской власти Издательским отделом Московской патриархии был издан только один учебник для духовных школ, а именно «Краткое литургико-практическое пособие для учащихся духовных семинарий» А.И. Георгиевского в 1951 г. Все остальное - исключительно пропагандистская литература с призывами церкви к миру, которая непременно дублировалась на основных европейских языках. Ведь настоящей целью любого такого издания было создание определенного мифа о церкви в советском государстве перед зарубежными странами. Подарочные издания о Почаевской или Троице-Сергиевой Лавре тоже носили явно представительский характер. А в книге под названием «Русская Православная Церковь», изданной в 1980 г., основное внимание было уделено опять же миротворческой и экуменической деятельности церкви и ее патриотической позиции во время Второй мировой войны.
Известный исследователь истории церкви С.Л. Фирсов проследил эволюцию новой церковно-исторической концепции, которая выросла из данной государством во время войны идеологической установки и повторялась потом в церковно-исторической литературе без существенных изменений до конца существования СССР. На примере того, как в послевоенной православной литературе освещалась фигура патриарха Тихона и его роль в исторических событиях тех лет, С.Л. Фирсов показал развитие новой концепции в рамках церковной историографии. Дело в том, что до войны советской исторической наукой патриарх Тихон однозначно именовался контрреволюционером и врагом большевиков. Фирсов, оставляя в стороне руководящую роль советского государства в формировании нового взгляда на довоенную историю церковно-государственных отношений, пишет, что «война позволила церковным авторам официально писать о Святом Патриархе Тихоне, пытаясь показать его не как врага Советской власти, а как духовного лидера, стремившегося к нормализации церковно-государственных отношений. Тем самым священноначалие Московской Патриархии желало демон-стрироать и себя как наследников его политики, исполнителей его политической воли» [5, с. 121].
В упомянутой выше книге «Правда о религии в России» была впервые предпринята попытка на историческом материале показать добровольное принятие церковью в лице своего предстоятеля новой власти и новой религиозной политики советского государства. Фирсов прослеживает, как усилиями авторов сборника «Святейший превращается в человека, решительно осуждавшего "всякие мечтания о восстановлении старого строя", осуждает всех злоупотреблявших церковным положением, отдаваясь политиканству, "иногда носящему преступный характер"» [5, с. 122]. В статье архиепископа Сергия (Гришина), одного из авторов «Правды о религии в России», осуждение патриархом Тихоном Карловацкого собора и деятельности православной эмиграции представлено доказательством того, что враги советской власти были и врагами патриарха, главной заботой которого было получение от новых властей возможности полностью легального существования церкви.
Архиепископом Сергием, пишет Фирсов, была выстроена следующая концепция: патриарх Тихон «всенародно признал Советскую власть и призвал верующих подчиняться ей не за страх, а за совесть. Соответственно, Декларация митрополита Сергия 1927 г. рассматривается как продолжение этой линии. Далее Патриарх призывал всех верующих молиться о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага – и митрополит Сергий ввел во всех храмах моление за власть. Патриарх осуждал политиканство, под церковным знаменем проводимое, и митрополит Сергий последовательно проводил эту политику в жизнь. Патриарх осудил действия белогвардейской эмиграции и участников Карловацкого собора – его преемник на основании канонов запрещает этих деятелей. Наконец, Патриарх желал легализации, а митрополит Сергий этого достиг. Итог простой: "Патриарх Тихон призывал всех сплотиться и помогать правительству в его деятельности. Митрополит Сергий не нарушил этих предписаний". Так перед нами вырисовывается образ великого патриота социалистического Отечества, понявшего и принявшего всем сердцем победу Октябрьской революции и не желавшего возвращения монархического строя. Учитывая, что в 1920–1930-е гг. официальная советская пропаганда писала о Патриархе Тихоне диаметрально противоположное, выставляя его "вынужденно раскаявшимся" врагом советской власти, статья владыки Сергия выглядела новаторски. На лживый миф о Первосвятителе, созданный в условиях "классовых битв" за построение безбожного царства "рабочих и крестьян ", накладывался официозный миф Московской Патриархии о Святейшем как о "друге " большевистского режима» [5, с. 123-124].
Мы фактически видим, что в подтверждение этой концепции вслед за «Правдой» и патриотическим сборником о войне Московская патриархия публикует сборник документов о деятельности патриарха Сергия (Страгородского), чтобы подкрепить новую концепцию документально. Можно сказать, что обновленческая точка зрения на советскую власть как на силу, проводящую в жизнь христианские идеалы, не прижившаяся среди верующих, несмотря на все усилия и поддержку обновленцев советской властью, в сильно отредактированном виде все-таки была имплантирована в идеологию официального православия, когда стало понятно, что «тихоновская церковь» оказалась гораздо жизнеспособнее своих обновленческих оппонентов.
Иронично выглядит в этом контексте позиция советских авторов в вопросе оценки фигуры патриарха Тихона и его отношения к власти большевиков, которая исторически была ближе к истине. Уже упоминавшийся П.К. Курочкин справедливо отмечал, что позиция патриарха Тихона по отношению к советской власти была скорее аполитичной, чем дружественной. Курочкин, конечно, сильно преуменьшал драматизм исторической ситуации, когда утверждал, что «прогресс советского общества вынудил церковь отказаться от формулы аполитичности и перейти на позиции лояльности в отношении социалистического государственного и общественного строя». Но он совершенно справедливо отмечал, что «эта новая церковная ориентация предполагала признание Советской власти и необходимость политического регулирования религиозно-церковной жизни с ее стороны. Осуществление ее возглавил митрополит (затем патриарх) Сергий (Страгород-ский). Первое время после того, как митрополит Сергий встал во главе церкви, он придерживался тихоновской концепции церковно-государственных отношений. Понимая, однако, что время требует развития этих отношений, митрополит Сергий вскоре предпринимает усилия по выработке нового политического курса русского православия с учетом опыта, которым обладало обновленческое движение» [2, с. 130]. При этом Курочкин справедливо укорял церковных авторов: «Вождю церковной контрреволюции, анафематствовавшему Советскую власть, иногда приписывается установление новых, лояльных отношений между религиозной организацией и государством в СССР. Если в отдельных статьях, диссертациях и сочинениях, написанных православными авторами, и содержится критика действий патриарха Тихона, то она сводится к тому, что перво-иерарх русской церкви совершал "ошибочные политические деяния" в отношении Советского государства. На самом деле это были не просто "ошибки", а ярко выраженный антисоветский курс, направленный на свержение власти рабочих и крестьян. Главную вину за эти "ошибки", по уверениям защитников православия, несут "злые советники патриарха – приверженцы старых порядков". Так, вопреки историческим фактам происходит реабилитация церковного деятеля, боровшегося против социалистического общественного строя» [2, с. 136].
Любопытно, что новой церковно-исторической концепцией была усвоена не только обновленческая риторика в отношении советской власти, но и предшествующая ей дореволюционная либеральная концепция, представлявшая церковь синодального периода пленницей царского режима, от которой революция освободила ее. Это тоже вызывало возмущение советских авторов, которые решительно протестовали против того, что синодальная церковь была жертвой царизма, всячески притеснявшего ее. Такая точка зрения противоречила однозначной оценке церкви идеологами марксизма-ленинизма как хищника, как крупного феодала, выжимающего все соки из крестьян, и как верного союзника государства в деле угнетения простого народа.
Заключение. Жесткая цензура и идеологическое давление делали невозможным изучение сколько-нибудь актуальных сюжетов церковной истории в СССР. Но именно их требовалось в первую очередь осмыслить, чтобы в нужном советской власти ключе представить отношение церкви к революции и новым церковно-государственным отношениям. Результатом такого положения вещей стало появление псевдонаучных конструкций, которые держались на протяжении советского периода исключительно силой цензуры и закрытостью от читающей публики документов, которые могли бы их опровергнуть. Инициировано рождение новой концепции церковной истории было, конечно же, советской властью. Согласно этой новой концепции, православная церковь в СССР полностью поддерживала и одобряла советский строй, что подтверждалось всей издаваемой Московской патриархией литературой в основном политического и миротворческого характера. Все печатные издания Московской патриархии были подцензурными и служили государственным целям, оставляя неудовлетворенными реальные нужды рядовых верующих советских граждан.
Список литературы Издательская деятельность Московской патриархии в СССР (1940-1980-е годы)
- Кашеваров А.Н. Частичное возрождение и особенности церковной печати в 1940-е годы. - Христианское чтение № 4. - 2016. - С. 191-204.
- Курочкин П.К. Эволюция современного русского православия. - М., 1971.
- Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. - М.: Московская патриархия, 1943.
- Степанов (Русак), Владимир. Свидетельство обвинения. - Том 2. - М., 1993.
- Фирсов С.Л. Святой патриарх Тихон в отражении изданий московской патриархии (с 1940-х по 1990-й г.). К историографии вопроса. - Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. - 2017. - Вып. 76.