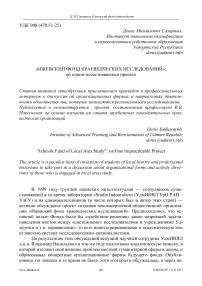"Ижевский фонд краеведческих исследований": об одном несостоявшемся проекте
Автор: Сахарных Денис Михайлович
Журнал: Иднакар: методы историко-культурной реконструкции @idnakar
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья является своеобразным приглашением краеведов и профессиональных историков к дискуссии об организационных формах и направлениях деятельности объединения лиц, которые занимаются региональными исследованиями. Публикуется и комментируется проект, составленный профессором В.В. Напольских на основе изучения им опыта зарубежных самодеятельных краеведческих организаций.
Короткий адрес: https://sciup.org/170150631
IDR: 170150631 | УДК: 908
Текст научной статьи "Ижевский фонд краеведческих исследований": об одном несостоявшемся проекте
“Izhevsk Fund of Local Area Study”: on One Impracticable Project
The article is a peculiar kind of invitation of students of local history and professional historians to take part in a discussion about organizational forms and activity directions of those who is engaged in local area study.
В 1999 году группой ижевских интеллектуалов — сотрудников существовавшей в то время лаборатории «Studia Indouralica» (УдмИИЯЛ УрО РАН – УдГУ) и их единомышленников (в числе которых был и автор этих строк) — активно обсуждался проект создания некоммерческой общественной организации «Ижевский фонд краеведческих исследований». Предполагалось, что основной целью Фонда было бы содействие решению давно назревшей задачи: наведения мостов между «системными» исследователями и учреждениями Удмуртии и т.н. «краеведами», то есть неинтегрированными в академическую или вузовскую систему исследователями–регионалистами.
По результатам этих обсуждений ведущий научный сотрудник УдмИИЯЛ д.и.н. Владимир Напольских в том же году подготовил аналитическую записку, в которой изложил своё видение проблем местной гуманитарной сферы в целом, и обрисовывал конкретные организационные формы будущего фонда. Опубликована эта записка в то время не была, хотя и открыто обсуждалась, а через не- которое время была свёрнута и активность по популяризации идеи Фонда вообще.
Между тем записка Напольских является весьма любопытным документом позднеельцинской эпохи. Многие из положений этого документа, — особенно в аналитической его части, — далеко не утратили актуальности и сегодня.
Следует сказать несколько слов о причинах неудачи этого проекта. На моей памяти это была не первая идея, предложенная местными гуманитариями и общественными деятелями для оптимизации сферы своей деятельности, и не доведённая даже до подготовительного цикла своей реализации. Такое положение авторы проектов были склонны объяснять различными внешними причинами («безразличие бизнеса», «враждебность косной академическо-вузовской системы», «закручивание гаек в отношении общественных организаций» и т.п.). Не отрицая самого факта наличия этих внешних факторов, а равно их значимости для дела, осмелюсь всё же заявить, что главным является личный фактор: все признают пользу подобных проектов, но никто не желает брать на себя ношу их отстаивания и реализации. Так получилось и здесь: наиболее видный застрельщик проекта, В. В. Напольских, по складу своего характера до настоящего времени избегающий публичности и какой-либо общественной деятельности, быстро «перегорел», а равной ему по интеллектуальному потенциалу и научному авторитету фигуры в рядах единомышленников тогда не нашлось.
Можно было бы поверить в некий злой рок, нависший над делом воплощения в жизнь подобного рода инициатив в условиях глухой интеллектуальной провинции, какой является, без сомнения, Удмуртия, если бы мы не имели перед глазами примеров удачного функционирования местных же проектов, решавших во многом сходные задачи: имеется в виду прежде всего работа фонда развития гуманитарных наук и образования («фонда Шаталова»; рук. — бизнесмен Василий Шаталов, ныне к.и.н.), работа которого пришлась на 1992–1996 г.г., и деятельность издательской группы «Иднакар» (с 2006 по наст. время; рук. —Алексей Коробейников). Во всех удачных случаях дело решалось, решается и, уверен, будет решаться прежде всего наличием готового к активной общественной деятельности, и одновременно включённого так или иначе в сферу гуманитарных исследований волевого лидера, а уже затем только — наличием «спонсоров» и иных ресурсов. Кстати, опыт работы научного журнала «Идна-кар: методы историко-культурной реконструкции» показывает, что разработчики проекта Фонда были склонны преувеличивать смету проекта — тот же В. В. Напольских в своей записке отмечал, что только «для первоначального (sic!) развёртывания работы» требуется сумма «в пределах 20–25 тысяч долларов в год». Оказалось, что в реальности можно добиваться заметных результатов оперируя и гораздо меньшими суммами.
Ниже мы полностью публикуем аналитическую записку В. В. Напольских по одному из последних её вариантов, сохранившихся в нашем электронном архиве. Особенности авторской орфографии, пунктуации и стилистики сохранены.
* * *
Краеведение и путь к гражданскому обществу
Беды сегодняшней России и Удмуртии нередко объясняют чисто экономическими причинами: «разруха», «заводы стоят», «нет средств». Однако, если взглянуть на дело объективно, то нетрудно заметить, что в стране достаточно любых природных ресурсов, имеется промышленная и транспортная инфраструктура, которой могут только позавидовать большинство стран мира. Судя по уровню жизни определённой части населения, более чем достаточно и денег. Как это ни удивительно, но сохраняется (по крайней мере в старых центрах вроде Москвы и Питера) и научный потенциал: количество отъезжающих учёных несколько сократилось не потому, что их не осталось, а потому, что благодаря свободе связей с Западом оказывается возможным работать дома, а зарабатывать за рубежом. Корень проблем лежит, пожалуй, не в экономическом «базисе» и не в культурной «надстройке», а в том, что должно их соединять и приводить в движение – в общественной структуре, в социуме. Именно социум как самоорганизующийся и саморазвивающийся организм был практически уничтожен в нашей стране в течение последних восьмидесяти лет и заменён на иерархическую структуру, высшим принципом которой является бессмертное «я — начальник, ты — дурак». Конец тоталитарного коммунистического режима, при котором человек существовал лишь в виде винтика гигантской машины, и состоит в развале этой машины, в отказе общества или, по крайней мере, активной его части от тоталитарной идеологии. При этом, однако, нормальная общественная структура не воссоздаётся автоматически, её возрождение – дело долговременное, возможное, скорее всего, только со сменой поколений. А пока до завершения процессов общественной консолидации далеко, народ обречен жить в этаком атомарном состоянии, приводящем многих к поиску «новых» (на самом деле – старых и милых сердцу выросшего в тоталитарном обществе человека) идеологических основ – неважно, уход ли это в религию, возврат к коммунизму, националистическое идо[ло]бесие, — все сие «жизненные стержни» ценны лишь возможностью возврата к положению счастливого винтика. С другой стороны, это атомарное общественное состояние приводит к дикому имущественному расслоению, вопиющим социальным контрастам, расцвету криминалитета и прочим радостям жизни «каждый за себя».
Не случайно в последние годы весьма редко можно услышать весьма популярный в эпоху ещё горбачёвской гласности термин гражданское общество: как оказалось, сложение сообщества граждан, то есть свободных и ответственных людей, связанных не идеологией и мудрым партийным руководством, а разнообразными экономическими, политическими, культурными интересами, которые граждане свободно и активно реализуют, — сложение такого общества не происходит ни по указанию свыше, ни вследствие многочисленных заклинаний интеллигенции. Поэтому и разговоры о построении такого общества постепенно затихли. Между тем, ускорение процессов общественной консолидации в направлении гражданского общества возможно, в частности, через со- здание горизонтальных (неиерархических) общественных связей. Особую роль в системе этих связей может сыграть гуманитарная культура и прежде всего – распространение в обществе интереса к истории и культуре родного края, к родному языку, к прошлому народов нашей страны. Огромный потенциал гуманитарной науки в формировании позитивной национальной идеи, в сложении гражданского общества известен из истории многих европейских стран, ближайший и наиболее известный для жителей Удмуртии пример — Финляндия, где во многом именно благодаря внедрению в массовое сознание чисто академических историко-филологических концепций, благодаря активному участию в общественной жизни учёных-гуманитариев в XIX веке оказалось возможным национальное возрождение.
Положение дел с гуманитарным образованием в Удмуртии весьма печально. И причиной здесь опять-таки не только пресловутое отсутствие средств, но прежде всего – отсутствие реальной среды, в которой такое образование и гуманитарная научная и культурная жизнь вообще могли бы функционировать. В наследство от советской власти нам достались структуры (Университет, Институт Академии Наук), сугубо иерархические и тоталитарные. Основным критерием ценности и значимости результатов научной работы являются формальные показатели: наличие научной степени и звания, объём печатных работ, а главное — положение того или иного деятеля в административной системе. Естественно, подобные критерии вообще не имеют никакого отношения к науке и автоматически ведут к подмене реальной научной и культурной жизни борьбой амбиций и примитивными склоками. На это наслаиваются и известные проблемы российской провинции: едва ли надо напоминать, что «университетами» в 70-е годы были в плановом порядке (ещё и к юбилеям — вспомним официальное название Удмуртского университета имени 50-летия СССР!) объявлены заштатные пединституты, при этом введение университетских курсов происходило по принципу: партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!» Говорить о реальной подготовке кадров, естественно, не приходится. Сегодня эта добрая традиция не менее успешно продолжается в новых условиях. Особую мину подложила под местную науку система подготовки «национальных кадров», когда мальчику или девочке достаточно было иметь хорошую репутацию у руководящих дяденек и соответствующую национальность, и дорога ему (ей) в столичные университеты, аспирантура, стажировка за рубежом были обеспечены согласно установленным квотам. Разумеется, такая подготовка приводила к формированию у мальчика или девочки только двух профессиональных качеств: национальной принадлежности и уважения к начальству — других не требовалось. Результатом всего этого является сегодняшнее весьма плачевное состояние местной гуманитарной науки, которое в целом можно самым доброжелательным образом охарактеризовать как глубоко провинциальное. Конкретных примеров приводить не буду – их так много, что даже не смешно, да и изменить что-либо в этой сфере, кажется, уже невозможно.
Важно другое: существующая гуманитарная научная среда крайне неэффективна и слаба, даже хотя бы в чисто количественном смысле. В той же
Финляндии на четыре с половиной миллиона жителей имеется почти десяток университетов, каждый из которых является одновременно и крупным центром научно-исследовательской работы в области языка и истории — это не считая музеев, научных обществ и других институтов. У нас же в Удмуртии при населении лишь в два раза меньшем всего один университет, один пединститут и один научно-исследовательский институт, которые в силу обрисованных выше особенностей местной научной среды и при ограниченном финансировании едва ли способны расширить пределы своей деятельности.
При этом интерес к истории и культуре родного края у людей весьма высок, в Удмуртии работает огромное количество любителей-краеведов – школьных учителей, работников сельских домов культуры и библиотек, пенсионеров. Вся эта армия энтузиастов, однако, не может быть привлечена к официальной науке, так как не соответствует основным требованиям, предъявляемым ею к учёным: у них нет научной степени, и занимаются они своим делом исходя не из карьерных, а из душевных побуждений. Исторический опыт европейских стран показывает, что объединение любителей-краеведов и создание региональных и общенациональных обществ по изучению истории и культуры родного народа является весьма мощным толчком в подъёме культуры, образования, национального самосознания и в становлении гражданского общества. Подобные общества существовали и в России вплоть до 30-х годов нашего века.
Таким образом, сегодня у нас есть неплохая возможность при наличии минимальной доброй воли объединить движение к гражданскому обществу, развитие культурной среды и гуманитарного образования в Удмуртии через создание некоммерческой общественной организации, призванной способствовать развитию гуманитарных исследований в Волго-Уральском регионе в целом и в Удмуртии в особенности и популяризации их результатов – Ижевского фонда краеведческих исследований .
Цели Фонда:
Поддержка исследований в области истории, языков и культуры народов, проживающих в Удмуртии и на прилегающих территориях.
Поддержка работы краеведов – как профессионалов, так и любителей – по собиранию материалов по истории, языкам, этнографии, фольклору, топонимии в Удмуртии и в соседних областях и республиках.
Публикация материалов, исследований и научно-популярных сочинений по истории, языкам, этнографии, фольклору, топонимии Удмуртии и прилегающих территорий.
Объединение и координация действий учёных-гуманитариев и краеведов-любителей Ижевска и Удмуртии с учёными из ведущих научных центров России и мира.
Для этого Фонд проводит следующую работу:
Ежегодные конкурсы исследовательских и научно-популярных работ по истории, языкам, этнографии, фольклору, топонимии Удмуртии и со- седних областей и республик. К конкурсу могут быть допущены работы всех авторов независимо от их возраста, образования и рода деятельности. По итогам конкурса победители получают денежные призы. Лучшие работы публикуются в изданиях Фонда.
Предоставление грантов на проведение исследований специалистам, работающим по тематике, поддерживаемой Фондом, и краеведам-любителям, работы которых были одобрены в ходе ежегодных конкурсов.
Издание научных трудов в виде ежегодника – сборника научных статей, формируемого из работ специалистов по тематике, поддерживаемой Фондом, и работ краеведов-любителей, рекомендованных к печати по итогам ежегодных конкурсов, а также – издание отдельных монографических исследований , выполненных по грантам, предоставленным Фондом. Помимо этого Фонд может издавать научно-популярный альманах и выступать как инициатор и организатор научных конференций .
Создание общественной негосударственной организации, объединяющей и поддерживающей людей, интересующихся историей и культурой своего родного края, приведёт к повышению роли интеллектуалов, к росту престижа образования и гуманитарного знания, культуры в обществе. Наличие такой организации положительно повлияет на общественно-политический климат региона: объединённые и имеющие выход к средствам массовой информации и к мировой науке краеведы превращаются из чудаков-одиночек в реально действующую общественную силу . Результаты деятельности Фонда непременно вызовут широкий отклик у коллег в России и за рубежом, что также будет способствовать повышению престижа науки, активизации разнообразных научных и культурных контактов. Через Фонд возможно выявление и поддержка талантливых учащихся школ, студентов ВУЗов , интересующихся историей и культурой своего края. Отсутствие работы по поиску таких людей сегодня приводит к тому, что региональная наука либо остаётся без молодого пополнения, либо в неё приходят случайные люди. Как показывает опыт деятельности подобных организаций в дореволюционной России и других странах мира, краеведы-любители на местах, получая консультации специалистов и минимальное поощрение, имея возможность публиковать плоды своих трудов, могут внести реальный вклад в процесс сбора и первичной обработки фактических материалов по истории, культуре, языку, топонимике края . Это тем более необходимо сегодня, когда научные учреждения не имеют средств для организации экспедиций, архивной работы и т.д. В условия недостаточного финансирования науки складывается ситуация, когда даже окончившие ВУЗ и защитившие диссертацию молодые исследователи не могут найти рабочего места по специальности и, работая в школах, в учреждениях культуры, на административных должностях, прекращают научную работу. Создание Фонда даст этим людям возможность продолжать заниматься любимым делом и видеть реальные результаты своего труда независимо от места их работы и проживания.
Спонсорами Фонда могут быть частные лица, частные, кооперативные и государственные предприятия. Для первоначального развертывания работы требуется сумма в пределах 20-25 тысяч долларов в год.
Приглашаем спонсоров к сотрудничеству.
Напольских Владимир Владимирович
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Не могу не согласиться с высказанной Д. М. Сахарных мыслью о том, что публикуемая записка В. В. Напольских является весьма интересным документом эпохи. Не в меньшей степени этот текст интересен и как документ личного происхождения. Из содержания текста ясно видно, что его автор в 1999 г. не имел достаточного опыта руководящей или проектной деятельности: хотя публикуемая записка содержит во многом верную и на сей день описательную часть, но предлагаемые будущему Фонду цели и задачи сформулированы в виде максимально общих благопожеланий, за которыми почти не видно региональной специфики, которую так ярко обрисовал автор в описательной части; кроме того, не вполне ясно, чем деятельность Фонда по публикации работ, предоставлению грантов и т.д. принципиально и в лучшую сторону будет отличаться от аналогичной деятельности уже существующих структур? Можно предположить, что, коль скоро выпускаемые представителями местной «официальной» науки работы далеки от мирового уровня, — что констатирует и осуждает автор, — то уж работы, выпущенные при содействии Фонда, будут, если и не весьма хороши, то всё же намного лучше имеющихся (иначе к чему было хлопотать и организовываться?). Но кто проконтролирует качество этих работ? Какие механизмы обеспечат выполнение задач Фонда на надлежащем уровне? Лично В. В. Напольских? Несомненно, учёному столь высокой квалификации можно без страха доверить руководство научной экспертизой Фонда, но что будет, если, скажем, он захочет сменить климат, покинет Удмуртию и переселится куда-нибудь в Крым, а то и вовсе решит отойти от науки? Как структура, не теряя своих особенных позитивных качеств, будет самоподдерживаться и самовос-производиться во времени?
Автор сожалеет о несложившемся у нас «гражданском обществе». Если он нашёл необходимым поговорить об этом, то наверняка будущий Фонд виделся ему в качестве своего рода фрагмента, «островка» гражданского общества в местной гуманитарно-научной сфере. Но его проект выдержан не в соответствующем духе: складывание гражданского общества происходит на основе объединения усилий лиц, руководствующихся общими ценностями и интересами, в то время как В.В.Напольских предложил создать централизованную мессианскую структуру, покровительствующую любителям истории и культуры родного края. Насколько приглашаемые к сотрудничеству спонсоры могут быть уверены, что они выделяют средства на общественно значимое и полезное дело, а не на удовлетворение склонности отдельных частных лиц к гуманитарному прожектёрству и писательскому творчеству?
Денис Сахарных, публикатор текста записки нашёл возможным в качестве положительного примера сослаться на деятельность основанной мною издательской группы «Иднакар», и, в частности, на основное наше издание — научный журнал «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции»1. Но я не вполне могу разделить высказанный им в адрес В. В. Напольских упрёк в излишнем преувеличении сметы проекта: неизвестно в точности, как именно планировал смету будущего Фонда автор проекта, а ссылка на опыт «Иднакара» с формальной точки зрения не совсем корректна, ведь мы отнюдь не ставим перед собой таких многообразных целей, какие предлагались Фонду, и, главное, существование наших проектов основано прежде всего на энтузиазме их участников: как издатель журнала «Иднакар», я из своих личных средств оплачиваю лишь относительно скромные типографские расходы и расходы по распространению тиража, а всю остальную работу члены редакции выполняют бесплатно, на общественных началах. Но по существу ссылка на «Иднакар» всё же является верной: он возник и действует именно как структура гражданского общества, как сообщество заинтересованных в общем деле, активно формирующих горизонтальные профессиональные и личные связи товарищей и коллег. Именно этим объясняются его (надеемся, реально существующие) достоинства и — несомненно, весьма заметные с блестящих высот академической науки — его недостатки.
Публикатор также снабдил название своей работы подзаголовком «Об одном несостоявшемся проекте», подчёркивая тем самым, что рассматриваемый проект организации Фонда краеведческих исследований уже целиком принадлежит истории и не имеет перспектив. Однако на мой взгляд, изложенная проектная идея, как и проектные идеи, инспирированные ею, сравнительно легко могут быть дополнены бизнес-планами, построенными уже с детальным учётом реальных условий. В этом смысле предложения, высказанные В. В. Напольских, вполне сохраняют актуальность. В качестве примера социального проектирования, близкого по духу идеям, изложенным в записке Напольских, отсылаю читателя к своей книге «Этнопедагогические проекты в краеведческом образовании» (Ижевск, 2006)2 — в ней излагается методика составления грантовых заявок, и приводятся три проекта, которые получили финансирование и были реализованы.
А. В. Коробейников, издатель журнала «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции»