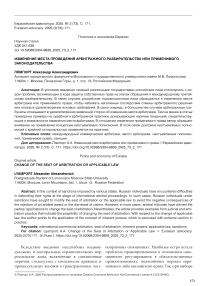Изменение места арбитража или применимого права
Автор: Лямпорт А.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В условиях введения санкций различными государствами российские лица столкнулись с рядом проблем, возникающих в ходе защиты собственных прав на этапах обращения к международному третейскому разбирательству. В таких случаях российские подсанкционные лица обращаются к изменению места арбитража или применимого права, чтобы избежать негативных последствий отмены арбитражного решения или отказа в удовлетворении исковых требований. В свою очередь, в большинстве случаев арбитражные трибуналы отказывают в удовлетворении заявлений сторон об изменении места арбитража. Тем не менее в статье приведены примеры из судебной и арбитражной практики, доказывающие наличие тенденций, свидетельствующих о возможности изменения места арбитража. В отношении изменения применимого права автор обращает внимание на применение концепции неотъемлемых полномочий. В этой связи доктрина неотъемлемых полномочий с крайней осторожностью применяется на практике.
Международный коммерческий арбитраж, место арбитража, неотъемлемые полномочия, применимое право, санкции
Короткий адрес: https://sciup.org/140309909
IDR: 140309909 | УДК: 341.638 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_171
Текст научной статьи Изменение места арбитража или применимого права
применимым правом законодательства одного из государств – членов Европейского союза арбитры, как правило, не могут обойти стороной норму статьи 11 Регламента Совета ЕС № 833/2014.
Согласно этой норме российские участники коммерческих споров практически утрачивают возможность эффективной судебной защиты в пределах европейского правового пространства. Это обусловлено, в частности: (i) чрезмерно широким содержательным охватом вышеуказанной статьи, охватывающей не только субъекты, находящиеся под санкциями, но и более широкий круг лиц; (ii) отсутствием достаточных процессуальных гарантий, несмотря на наличие исключений, например в статье 5c (разрешающей покрытие расходов на юридическую помощь); (iii) риском актуализации статьи 11 уже на стадии исполнения или при оспаривании арбитражного решения в национальных юрисдикциях государств ЕС.
Ввиду конфиденциального характера арбитражных процедур затруднительно установить устоявшуюся практику применения указанной нормы. Дополнительно на трактовку и реализацию санкционного регулирования в рамках арбитража может оказывать влияние как выбор места арбитража, так и юридическая принадлежность арбитров, включая их гражданство, что имеет значение с позиции доктрины lex arbitri и концепции нейтральности третейского состава.
Следует отметить, что, несмотря на отсутствие идентичных норм в правовых системах Великобритании и США, данные юрисдикции, как и правопорядки стран ЕС, исходят из презумпции обязательного применения императивных норм публичного порядка (public policy norms), к числу которых отнесены и положения санкционного характера. Таким образом, при применении английского, американского либо европейского материального права арбитры вынуждены учитывать нормы публичного порядка независимо от автономии воли сторон. Подобная ситуация возникает и в случаях, когда соответствующая юрисдикция избрана сторонами в качестве места проведения арбитража.
Как следствие, российские участники арбитражных соглашений инициировали попытки изменить согласованные условия, касающиеся как применимого права, так и арбитражного места, с целью нивелировать риски отказа в признании и приведении в исполнение решений международных арбитражей.
Согласно общепринятым положениям международного арбитражного права, третейский 172
суд не вправе произвольно изменять договорные условия арбитражной оговорки без согласия обеих сторон. Нарушение установленных договором параметров процедуры может быть квалифицировано как превышение полномочий арбитражного состава в контексте статьи V Нью-Йоркской конвенции 1958 года, что, в свою очередь, создаёт основания для отказа в признании или исполнения арбитражного решения.
Тем не менее до осуществления дискретных полномочий трибунал обязан учитывать процессуальную позицию сторон по вопросу возможной модификации согласованных условий. Хотя приоритет отдаётся воле сторон, в случаях существенного трансформационного изменения обстоятельств, сложившихся после заключения арбитражного соглашения, арбитры могут обоснованно отклониться от первоначальной договорённости [1, с. 17–35].
В практике арбитражных учреждений прослеживается устойчивая тенденция к отказу в удовлетворении ходатайств об изменении места арбитража при наличии несогласия со стороны одного из участников спора. Этот подход находит отражение не только в делах с участием российских подсанкционных субъектов, но и в аналогичных спорах с участием иных стран, находящихся под международными ограничительными мерами (например, Ирана и Кубы).
Несмотря на это, в ряде дел была допущена возможность отступления от установленного сторонами арбитражного места, включая следующие прецеденты:
– Huntington Ingalls Inc. v. Ministry of Defense of the Bolivarian Republic of Venezuela (II) (Procedural Order № 2 (Jurisdiction, Arbitrator Challenge, Place of Arbitration and Applicable Law), 16 July 2013) [4];
-
– Knopf Betriebs v. The Czech Republic; I.C.W. v. The Czech Republic; Voltaic Network v. The Czech Republic; Europa Nova v. The Czech Republic [5–8];
-
– Heirs to the Sultanate of Sulu v. Malaysia [9];
– Himpurna Cal. Energy Ltd v. PT (Persero) Pe-rusahaan Listruik Negara, Procedural Order in Ad Hoc Case of 7 September 1999, XXV Y.B. Comm. Arb. 109 (2000) [2, с. 49–55].
Приведённые дела свидетельствуют о возможности гибкой интерпретации договорных положений, касающихся lex loci arbitri, в исключительных случаях.
Во-первых, существенное изменение геополитических, социально-экономических и правовых обстоятельств по сравнению с моментом заключения соглашения может рассматриваться как основание для пересмотра условий. Такие изменения могут быть квалифицированы как непредвиденные и выходящие за рамки предполагаемых рисков, известных сторонам на момент заключения договора.
Во-вторых, данные изменения способны негативно повлиять на обеспечение фундаментальных принципов процессуального равенства и доступа к правосудию, предусмотренных международными стандартами арбитража.
В-третьих, факультативные основания для пересмотра места арбитража включают: косвенное одобрение изменения со стороны противоположной стороны; появление фактических обстоятельств, создающих реальную угрозу нарушения справедливости и эффективности третейского разбирательства (например, высокий риск отмены арбитражного решения или отказа в его признании и исполнении).
Представляется, что сторона, инициирующая изменение арбитражного места, должна продемонстрировать наличие устойчивой и практически необратимой угрозы негативных последствий при сохранении ранее согласованной юрисдикции арбитража, особенно в условиях возражений другой стороны.
Наконец, в отдельных случаях политическая и правовая трансформация в юрисдикции, ранее избранной сторонами в качестве места арбитража, может поставить под сомнение объективность, беспристрастность и гарантии справедливого процесса. При таких условиях может быть допустим отказ в признании соглашения сторон относительно места арбитража как утратившего правовую обоснованность ввиду фундаментальных изменений правового режима [3, с. 756–757].
Таким образом, изменение места арбитража или применимого права представляет собой яркий пример реализации неотъемлемых полномочий, пределы применения которых остаются довольно неопределенными. Тем не менее, практика свидетельствует об удачных примерах изменения места арбитра, что обуславливает необходимость дальнейшего исследования поставленной проблематики.