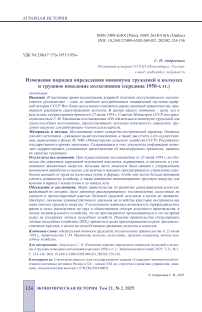Изменение порядка определения минимума трудодней в колхозах и трудовое поведение колхозников (середина 1950-х гг.)
Автор: Андреенков С.Н.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Аграрная история
Статья в выпуске: 2 (69) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящее время исследование аграрной политики постсталинского «коллективного руководства» - одно из наиболее востребованных направлений изучения аграрной истории СССР. Все более актуальным становится анализ решений правительства, призванных расширить самоуправление колхозов. В центре нашего внимания - цели, ход и результаты осуществления принятого 23 июня 1954 г. Советом Министров СССР под председательством Г. М. Маленкова постановления «Об обязательном минимуме трудодней для трудоспособных колхозников», предоставлявшего колхозам возможность определять трудовую нагрузку для работающих членов сельхозартели.
Обязательный минимум трудодней, постановление правительства от 23 июня 1954 г, правительство г. м. маленкова, колхозы, колхозники, трудовое поведение, личное подсобное хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/147251553
IDR: 147251553 | УДК: 94:338(47+57)»1953/1956» | DOI: 10.24412/2409-630X.069.021.202502.124-136
Текст научной статьи Изменение порядка определения минимума трудодней в колхозах и трудовое поведение колхозников (середина 1950-х гг.)
В настоящее время различным проблемам истории колхозной системы и советского крестьянства в годы первого послевоенного двадцатилетия посвящено немало научных публикаций [1–3; 7–12; 15; 16; 18– 20]. Наименее изученной остается аграрная политика постсталинского «коллективного руководства».
После смерти И. В. Сталина центральное руководство СССР намеревалось в первоочередном порядке преодолеть продовольственный дефицит, создать стратегические резервы зерна, поднять потребление продуктов питания до уровня, соответствующего научно-медицинским нормам. Решение этих задач должно стать первым шагом к изобилию материальных благ, без кото- рого невозможно было войти в коммунизм. Пути повышения продуктивности сельского хозяйства, самой проблемной отрасли экономики, руководители страны видели по-разному. С одной стороны, использовались административно-мобилизационные методы управления сельхозпредприятиями, с другой – меры по либерализации аграрной системы.
Противоречивые тенденции оттепели наиболее рельефно проявились в 1954 г. С весны набирала обороты инициированная главой КПСС Н. С. Хрущевым кампания по освоению целинных и залежных земель в восточных районах страны, которая предусматривала мобилизацию сил и средств для немедленного получения столь нужного родине хлеба. Залогом ее успеха считалась высокая продуктивность создаваемых на новых землях больших зерновых совхозов, плодородие целинных и залежных почв и трудовой энтузиазм первоцелинников, порожденный патриотическим духом и верой в светлое будущее. В то же время правительство во главе с Г. М. Маленковым проводило в деревне экономическую политику, нацеленную на удовлетворение индивидуальных и групповых интересов крестьян. Впервые с начала массовой коллективизации для колхозников создавались возможности достойно зарабатывать в общественном хозяйстве, что также должно породить очевидный трудовой энтузиазм и повысить продуктивность аграрного сектора экономики.
Первая постсталинская аграрная программа, озвученная Г. М. Маленковым 8 августа 1953 г. в докладе на сессии Верховного Совета СССР1 и отраженная в принятой позднее серии постановлений2, предусматривала существенное увеличение финансирования сельского хозяйства и использование в целях стимулирования колхозов организационно-экономических механизмов действующей аграрной модели. Речь шла о формировании у машиннотракторных станций (МТС) материальной заинтересованности в наращивании производительности колхозов, усилении технической базы хозяйств, повышении уровня заготовительных цен и создании условий для реализации производственно-кооперативного начала сельхозартелей, развития колхозных рынков и торговли. Вопросы об улучшении технического обслуживания колхозов, предоставлении им больших финансовых средств и хозяйственной самостоятельности в сталинские годы в высших эшелонах власти ставились неоднократно, но реальные шаги по их решению так и не были сделаны, поскольку И. В. Сталин уделял значительное внимание мобилизации трудовых ресурсов деревни для реализации общегосударственных задач. Г. М. Маленков, стоявший у истоков аграрной десталинизации, не намеревался менять каким-либо образом организационные конструкции сталинской аграрной системы. Такие «революционные» мероприятия, как реорганизация МТС, массовое укрупнение колхозов и преобразование их в совхозы, строительство госхозов на целине, активно продвигал Н. С. Хрущев.
При анализе аграрной политики постсталинского «коллективного руководства» целесообразно акцентировать внимание на попытках правительства увеличить полномочия колхозников в управлении общественным производством и организационно-экономическими делами артели.
Первый и важнейший шаг в этом направлении – принятие 23 июня 1954 г. Советом Министров СССР постановления «Об обязательном минимуме трудодней для трудоспособных колхозников»3, предоставившего колхозным собраниям возможность определять трудовую нагрузку для работающих членов сельхозартели с учетом местных условий. К этому вопросу руководство страны вновь обратилось уже после ухода Г. М. Маленкова с поста председателя правительства. 6 марта 1956 г. вышло партийно-правительственное постановление, которое рекомендовало колхозам вносить изменения и дополнения в свои уставы для определения оптимальных минимумов трудодней и размеров приусадебных участков. Годом ранее, 9 марта 1955 г., совместное постановление партии и правительства предоставило колхозам право устанавливать размер посевных площадей по культурам и количество скота по видам4.
В связи с появлением перечисленных выше документов становится актуальным вопрос: каковы были реальные мотивы, потенциал, перспективы и последствия проведения политики расширения колхозного самоуправления? Ряд авторов полагают, что основания для превращения сельхозартелей в жизнеспособные коллективные хозяйства, заинтересованные в саморазвитии, определенно были. Ю. В. Кузнецов утверждает, что среди колхозных председателей (даже тридцатитысячников) встречались руководители, выступавшие за хозяйственную самостоятельность сельхозпредприятий [13, с. 497–498]. О. Ю. Ель-чанинова акцентировала внимание на том, что по действовавшим правовым нормам колхозы имели широкие полномочия и возможности для относительно независимого хозяйствования, однако значительный потенциал кооперативной формы производства так и не реализовался [7, с. 60]. Причины отказа от подлинной либерализации колхозной системы данные исследователи увидели в склонности верховной власти решать социально-экономические проблемы с помощью административно-командных методов. Приблизиться к ответу на этот вопрос позволяет анализ хода и результатов реализации постановления от 23 июня 1954 г. Особенности осуществления этого решения, в отличие от специфики введения и использования минимумов трудодней в сталинский период [15; 17] и исполнения вышеотмеченных мартовских постановлений 1955 г. и 1956 г. [4–6], как советскими, так и постсоветскими учеными рассмотрены более чем фрагментарно.
Материалы и методы
Исследование имеет конкретно-исторический характер, поэтому в данной рубрике мы акцентируем внимание на использованных в нем исторических источниках. Статья базируется как на архивной документации, так и на документах и прочих материалах, опубликованных в специальных изданиях, а также в газетной периодике. Использованы законодательные, делопроизводственные документы, речи первых лиц государства, информационно-новостные материалы газет.
Постановления, законы и указы высших органов Советского государства, совместные решения ВКП(б) / КПСС и Совета Министров СССР выявлены в фондах и научно-справочных библиотеках российских архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) и Государственного архива Новосибирской области (ГАНО). Ряд законодательных источников опубликован на историко-просветительских интернет-ресурсах5. Часть задействованных в статье партийных и партийноправительственных постановлений входит в документальные издания, которые вышли в свет еще в советское время6. Делопроизводственные материалы (стенограммы, справки, докладные записки, информации и др.) выявлены в ходе работы с фондами указанных выше федеральных архивохранилищ. В исследовании использованы речи руководителей СССР, изданные в советский период, а также их малоизвестные выступления, хранящиеся в архивах и включенные в современные документально-исторические сборники7.
Опорные для настоящей статьи документы – указанное выше постановление Совета Министров СССР от 23 июня 1954 г., а также два делопроизводственных документа, выявленных в объединенном фонде РГАЭ № 7486 «Министерство сельского хозяйства СССР». Первый – справка о реализации постановления от 23 июня 1954 г. в Омской области, подготовленная аппаратами организационно-колхозного отдела Омского областного управления сельского хозяйства и Главного управления по организационно-колхозным делам Министерства сельского хозяйства СССР на имя В. А. Чувикова – начальника последней из названных структур8. Второй – записка В. А. Чувикова «О выполнении Постанов- ления Совета Министров СССР от 23 июня 1954 г. “Об обязательном минимуме трудодней для трудоспособных колхозников”» на имя заместителя министра сельского хозяйства СССР В. В. Мацкевича9. Документы были подготовлены в апреле 1955 г.
Конкретно-историческая информация, содержащаяся в этих делопроизводственных документах, позволяет скорректировать устоявшиеся в историографии представления об анализируемых процессах, выявить их скрытые тенденции и закономерности.
Результаты исследования
В рамках сложившейся в СССР в 1930-е гг. модели аграрного строя мобилизация ресурсов деревни проводилась при опоре на внеэкономические (повинностные) формы отчуждения аграрного продукта. Из-за низкой оплаты труда колхозники не были заинтересованы в его результатах. Работать на общественных полях и фермах их принуждало государство, в частности, посредством использования такого организационно-управленческого механизма, как годовой обязательный минимум выработки трудодней.
Минимумы ввели в мае 1939 г. в целях привлечения к общественно полезному труду мало и плохо работающих в сельхозартелях крестьян. По мнению И. В. Сталина, «настоящими дармоедами» были почти треть трудоспособных колхозников. К их числу он отнес тех, кто выдавал в год менее 50 трудодней (21 %) и не выработал ни одного трудодня (10 %)10. В хлопковых рай- онах каждый совершеннолетний способный к труду колхозник теперь должен был отработать 100 трудодней в течение года; в регионах Севера, Северо-Запада, Центра, Дальнего Востока и высокогорных территорий – 60, в остальных регионах страны – 80 трудодней11.
В апреле 1942 г. минимумы были повышены соответственно до 150, 100 и 120 трудодней и дифференцированы по периодам сельскохозяйственных работ. Так, работники колхозов самой большой, третьей группы районов, занимавшиеся преимущественно возделыванием зерновых культур, с 15 июня по 15 августа должны были выработать 30 трудодней, с 15 августа по 15 октября – 40, с 15 октября по 15 июня – оставшиеся трудодни. Таким образом, 58 % годового объема трудодней приходилось на летне-осенний период, когда проводились основные полевые работы, заготовка кормов, выпас общественного скота. Райисполкомы получили право повышать или понижать на 20 % количество трудодней в периодах работ, исходя из местных условий. Для подростков от 12 до 16 лет устанавливался отдельный минимум в 50 трудодней. Трудоспособные работники сельхозартелей, не выработавшие установленный норматив без уважительных причин, привлекались к суду и приговаривались к исправительно-трудовыми работам в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты труда до 25 % трудодней в пользу хозяйства. Колхозники, не выполнившие в течение года определенный для них минимум, должны были считаться выбывшими из колхоза и лишаться личного приусадебного участка12.
Повышенный минимум вводился только на период войны, но после Победы его действие неоднократно пролонгировалось, в частности в сентябре 1945 г. и в феврале 1952 г.13 В июне 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР указал на необходимость выселения в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих паразитический образ жизни14.
В правительстве неоднократно обсуждался вопрос о пересмотре трудовой нагрузки для колхозников в сторону повышения. Власти были обеспокоены тем, что действовавшие нормы выработки не способны обеспечить выполнение планов восстановления и развития сельского хозяйства в годы четвертой пятилетки, так как многие крестьяне ограничивали участие в работе на общественных полях и фермах выработкой положенного минимума. В 1947 г. Совет по делам колхозов при Совете Министров СССР предложил высчитывать годовую нагрузку исходя из общего количества трудодней, необходимых для выполнения производственных заданий. Предусматривалось установить минимум отдельно для трудоспособных мужчин и для трудоспособных женщин. Проект постановления, подготовленный в 1948 г., допускал введение единого для всех регионов норматива в размере 150 трудодней для трудоспособных и не менее 60 трудодней для подростков [4, с. 55–56].
После смерти И. В. Сталина политика государства по отношению к колхозам существенно смягчилась. В октябре 1953 г. была отменена уголовная ответственность за невыработку годового минимума тру-додней15. Постановление правительства от 23 июня 1954 г. исходило из того, что минимумы для способных к труду работников сельхозартелей за год и по периодам работ должны устанавливать колхозные собрания. Новые нормы выработки определялись с учетом конкретных условий хозяйства и с обязательным превышением показателей, действовавших в 1953 г. Решение собрания о минимуме вступало в силу только после утверждения его райисполкомом. Для хозяйств колхозников, отдельные члены семьи которых без уважительных причин не выработали в истекшем году положенное количество трудодней, сельскохозяйственный налог повышался на 50 % в соответствии со ст. 6 Закона «О сельскохозяйственном налоге» от 8 августа 1953 г.
В записке В. А. Чувикова констатировалось, что в большинстве случаев положения рассматриваемого правительственного постановления были в основном соблюдены. Сроки выполнения трудовых обязательств по периодам работ, как правило, оставались старые, предусмотренные решением правительства, принятым в апреле 1942 г. Размеры минимумов имели значительные колебания: например, в Ставропольском крае и Омской области – от 150 до 450 тру-додней16.
При реализации постановления от 23 июня 1954 г. не обошлось и без серьезных нарушений положений документа, которые выражались, в частности, в затя- гивании работ по определению трудовых нормативов и в установлении заниженных нагрузок. Так, в Тамбовской области в 1954 г. минимумы утвердили только у половины колхозов. В Ошской и Джалал-Абадской областях Киргизской ССР 11 сельхозартелей ввели для себя нагрузку ниже ранее установленного количества трудодней17.
Бόльшая часть эксцессов была связана с утверждением норм выработки отдельно для трудоспособных мужчин и для трудоспособных женщин. В 21 субъекте РСФСР дифференцированный по гендерным различиям минимум установили 17 % сельхозартелей. В число регионов, где этот процент был наибольшим, входила Омская область (35 %). В справке о реализации постановления от 23 июня 1954 г. в Омской области отмечалось, что в ряде ее районов число трудодней, которое за год должен был выработать мужчина, существенно превышало число трудодней, установленных для женщины. В колхозе им. Сталина Боль-шереческого района минимумы составляли соответственно 450 и 200, в колхозе им. Кагановича Одесского района – 400 и 175 трудодней. В колхозе им. Куйбышева Кормиловского района определенная для каждой трудоспособной женщины нагрузка в 130 трудодней оценивалась как заниженная, поскольку рядовые колхозницы полеводческих бригад выдавали здесь 180–220 трудодней в год. Мало того, в справке говорилось, что в ряде сельхозартелей новый минимум трудодней устанавливался для отдельных групп трудоспособных женщин по критериям их многодетности и занятости в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). В практике распределения нагрузки просматривалось стремление высвободить одного из членов семьи, главным образом женщин, для ухода за домом, огородом и скотом18.
Характерные тенденции прослеживаются при анализе практики установления минимума для мужчин. В записке В. А. Чувикова говорилось, что в колхозе им. Куйбышева Кормиловского района Омской области мужской минимум в 300 трудодней был неправильно распределен по периодам работ. Согласно утвержденному собранием распорядку, значительная нагрузка ложилась на периоды с 15 июня по 15 августа и с 15 августа по 15 октября. На эти месяцы выделили 95 и 130 трудодней соответственно, что в сумме составляло 75 % всего годового минимума. На периоды с 1 января по 15 июня и с 15 октября по 31 декабря приходилась только четверть общей мужской нагрузки19. Получалось, что в период с середины октября до середины июня работники колхоза им. Куйбышева, получив по трудодням вознаграждение за напряженный труд летом и осенью, намеревались уделять больше времени приусадебному хозяйству, а также охоте, рыбалке и другим традиционным мужским крестьянским занятиям зимнего и весеннего сезонов.
Важно отметить, что в тексте постановления от 23 июня 1954 г. о возможности определять годовой минимум трудодней отдельно для мужчин и отдельно для женщин вообще речи не шло, однако на практике раздельную нагрузку устанавливали. Возможно, дифференциация минимумов на мужские и женские была санкционирована особым распоряжением, которое пока нами не выявлено. Интересную информацию о введении раздельных минимумов мы узнаём из текста справки о реализации постановления от 23 июня 1954 г. в Омской области. В документе, в частности, отмечалось: «Решения общих собраний колхозников об установлении раздельного минимума трудодней в значительной мере были подсказаны со стороны МТС, а МТС были нацелены на это областным управлением сельского хозяйства, которое в почтотелеграмме от 17 июля 1954
года сообщило директорам МТС следующее: “Если общее собрание найдет необходимым, минимум трудодней может устанавливаться для трудоспособных мужчин и отдельно для женщин”»20. Понятно, что без разрешения вышестоящих органов на местах подобных указаний принять не могли.
После ухода Г. М. Маленкова с поста председателя Совета Министров СССР в январе 1955 г. дифференциация минимума на мужской и женский политическим руководством страны воспринималась как нежелательная практика, способствующая снижению производственной дисциплины в общественном хозяйстве. Оснований для подобных оценок было немало. В Сибири с 1954 по 1955 г. удельный вес колхозниц, не выполнявших установленную для них трудовую нагрузку, увеличился с 18,9 до 20,4 %, или на 1,5 процентных пункта. Среди сибирских регионов этот показатель достиг наибольших значений в Омской области. Здесь он поднялся с 18,4 до 22,0 %, или на 3,6 процентных пункта. На фоне статистики прошлых лет доля крестьянок, уклонявшихся от интенсивной работы в хозяйстве сельхозартели, казалась довольно существенной. Так, в 1950 г. в Сибири минимум не выполнили только 13,4 % колхозниц, в Омской области – 14,6 %21. Эти процессы не могли не беспокоить политическое руководство страны, которое понимало, что чем меньше крестьянок участвует в коллективном производстве, тем сложнее развивать общественное животноводство, где преобладает ручной женский труд.
В записке В. А. Чувикова говорилось, что многие женщины не вырабатывают необходимого количества трудодней, так как вынуждены сидеть дома с малолетними детьми. Если бы колхозы располагали бóльшим количеством детских учреждений, трудовой вклад колхозниц в развитие коллективного хозяйства существенно увеличился. В то же время невыход женщины на работу не всегда связан с уважительными причинами. Многие колхозницы активно занимаются домашним производством, которое в некоторых регионах страны, в первую очередь в южных республиках, дает доход, значительно превышающий заработок от работы в колхозе. Лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда, необходимо наказывать в соответствии со ст. 6 Закона «О сельскохозяйственном налоге» от 8 августа 1953 г., но этот законодательный инструмент применяется редко22.
Подчеркнем, что принятые правительством Г. М. Маленкова меры по стимулированию личных подсобных хозяйств были весьма результативны. Упомянутый выше закон о сельхозналоге23 существенно снизил налогово-податное обложение ЛПХ, что позволяло их владельцам получать излишки продукции и реализовывать их на рынке. Расширился контингент лиц, пользующихся льготами по уплате налога. Вести домашнее производство стало экономически выгодно. Сын Г. М. Маленкова Андрей в воспоминаниях отмечал, что именно отец настаивал на послаблениях для ЛПХ. По мнению мемуариста, «передача 15 % земли в частное пользование крестьянину буквально на следующий, 1954 год, дала стране столько сельхозпродукции (в том числе и животноводческой), что весь наш народ стал питаться заметно лучше» [14, с. 66]. Существенное увеличение производственного потенциала индивидуальных подворий подтверждается фактическим материалом. Так, в ЛПХ Сибири с 1953 по 1956 г. прирост поголовья КРС (+27 %), коров (+13 %), овец (+59 %) и свиней (+27 %) оказался более впечатляющим, чем в колхозах (+0,1, +12, –1, +1 %) соответственно [1, с. 236–237]. Поэтому Г. М. Маленков, по воспоминаниям его сына, «предполагал передать крестьянам на добровольных началах земли нерентабельных колхозов и совхозов... и планировал в дальнейшем создание фермерских хозяйств» [14, с. 66].
В 1956 г. в организационном механизме функционирования колхозов произошли заметные изменения. В соответствии с упоминаемым выше постановлением от 6 марта 1956 г. в колхозах в ходе работы по изменению устава сельхозартели был скорректирован действующий порядок организации и оплаты труда. Документ соответствовал духу XX съезда КПСС и сыграл значимую роль в реализации политики десталинизации. На съезде Н. С. Хрущев заявил: «Колхоз – кооперативное хозяйство. В нем все колхозники являются хозяевами, полноправными членами сельскохозяйственной артели, они сами распределяют работу между собой. И это вполне понятно. В нашем социалистическом обществе все направлено на удовлетворение растущих потребностей человека»24. Однако работа по корректировке уставов проводилась колхозниками под плотным контролем партийных органов, поэтому уставы крестьяне поправили так, как было выгодно центру. Центр в первую очередь намеревался поднять в сельхозартелях трудовую дисциплину, чтобы обеспечить выполнение производственных планов.
В рамках реализации постановления от 6 марта 1956 г. минимумы трудодней все же были дифференцированы на мужские и женские. Трудоспособные мужчины, а также трудоспособные женщины, не имеющие малолетних детей, получали повышенную нагрузку. В РСФСР наибольший норматив – 250 трудодней и выше – установили для 56 % мужчин, в Западной Сибири – для 77, в Восточной Сибири – для 83 %. Более половины женщин – 61, 79 и 71 % соответственно – должны были отрабатывать минимумы в 175 трудодней и выше25. В то же время для колхозниц с малолетними детьми определялись пониженные нормы выработки. Несовершеннолетним, инвалидам и престарелым минимума не устанавливали. Порядок их материального обеспечения оговаривался отдельно. Крестьянам начислялись авансы, а особо отличившиеся работники получали дополнительные выплаты, определяемые по решению общего собрания. Для колхозников, без уважительных причин не выполнявших установленную нагрузку, стоимость трудодня уменьшалась на 25 %. В новых уставах фиксировалось сокращение личных наделов у пенсионеров, а также у колхозников, члены семей которых получали доход от работы в других организациях или не вырабатывали минимум26. В сельхозартели «Союз строителей» Ояшин-ского района Новосибирской области участок двора этой категории семей уменьшался с 0,4 га, предусмотренных уставом 1935 г., до 0,10– 0,15 га. Колхозники должны были сократить поголовье домашнего скота. Так, в указанном хозяйстве по старому уставу каждая семья имела право содержать две – три коровы, по новому – только одну27.
Обсуждение
Итак, «новый курс» аграрной политики колхозники по достоинству не оценили и прогнозируемый властью большой трудовой энтузиазм в целом не проявили. Наоборот, снижение налогово-податного и административного давления государства на хозяйства селяне восприняли как шанс уменьшить трудовую нагрузку, что отчетливо просматривается в практике реализации постановления от 23 июня 1954 г. У тружеников сельхозартелей появилась возможность перераспределить время и силы, расходуемые на труд в общественном секторе колхозного производства, в пользу домашнего хозяйства, что в целом не противоречило курсу на стимулирование ЛПХ.
Фермеризация сельского хозяйства, о которой говорил цитируемый выше мемуарист, на рассматриваемом этапе советской истории – сценарий маловероятный, хотя подобного рода идеи могли рассматриваться в высших эшелонах власти. Согласно циркулирующей в среде историков и публицистов информации, сторонником деколлективизации был Л. П. Берия28. Впрочем, источники, подтверждающие подобную гипотезу, до сих пор не обнародованы. По нашему мнению, решение Г. М. Маленкова дать простор развитию ЛПХ – не смелая попытка преобразовать сложившийся аграрный строй с консервативных позиций, а скорее средство не допустить или преодолеть острый продовольственный кризис. В 1953 г. хозяйства многих регионов СССР (Украинская, Казахская, Латвийская, Литовская ССР, Краснодарский и Алтайский края, Омская и Новосибирская области) не выполняли государственное задание по поставкам хлеба, и руководители данных республик, краев и областей просили центр снизить плановые показатели. Кризис хлебозаготовок 1953 г. был вызван неурожаем зерновых культур (предыдущие два года также выдались недородными) и снижением темпов поставок зерна колхозами, которые стремились оставить больше хлеба в хозяйстве для выживания во время возможного голода. Ускорить ход хлебозаготовок путем репрессивного подавления «саботажников» в новых политических реалиях не представлялось возможным [3, с. 187–189].
Меры по стимулированию ЛПХ стали фактором, сдерживающим развитие колхозов и совхозов. Благодаря личным подворьям в трудовом поведении селян, главным образом женщин, сохранялись основные черты крестьянского менталитета, которые проявлялись в уклонении от высокорезультативной деятельности в общественном хозяйстве и хищениях его ресурсов для нужд приусадебного производства. Кроме того, ускорение темпов развития ЛПХ на фоне кризисных явлений в общественном производстве, в первую очередь в животноводстве, побуждало высокопоставленных адептов коммунистической доктрины добиваться использования административно-мобилизационных методов решения производственных задач и ускорения процессов огосударствления деревни и орабочивания крестьянства. В то же время на рассматриваемом историческом этапе ликвидировать ЛПХ руководство страны, конечно, не могло, так как уровень оплаты труда колхозников был существенно ниже уровня зарплат рабочих и служащих. Постепенное наращивание доходов работников сельхозартелей от труда в общественном хозяйстве создало бы условия для сокращения размеров их ЛПХ.
Могли ли колхозы в принципе стать самостоятельными заинтересованными в саморазвитии хозяйствами? Предоставленное им право распределять и нормировать труд и определять основные параметры производства, исходя из местных условий, в полном объеме действовало бы только при благоприятных факторах, обеспечивающих баланс интересов крестьянства и государства. В чрезвычайных обстоятельствах войны, подготовки к ней или послевоенного кризиса мнение колхозников о том, как им лучше вести коллективное хозяйство, центр игнорировал, имея об этом собственное представление, обусловленное сложившейся ситуацией, стратегическими государственными задачами, доктринальными и политическими установками. От административномобилизационных методов управления не отказались и в постсталинский период, хотя они уже не были столь одиозными. На пути развития колхозов как самостоятельных хозяйственных структур встали не только мобилизационные методы руководства, но и организационно-управленческая пассивность колхозных коллективов.
Заключение
Таким образом, первая постсталинская аграрная программа правительства, сформулированная в августе 1953 г. Г. М. Маленковым, базировалась на представлении о том, что в колхозах скрыт значительный экономический потенциал, который необходимо высвободить и использовать для подъема аграрного производства. Демонтаж наиболее одиозных механизмов сталинской аграрной системы и организация хозяйственной деятельности на основе подлинных кооперативных ценностей должны были превратить колхозы в эффективного производителя сельхозпродукции. Важным шагом в этом направлении стало принятие рассмотренного в статье постановления. С передачей сельхозартелям права устанавливать минимум выработки трудодней связывалось улучшение организации и оплаты труда колхозников и в конечном счете рост сельхоз-производства. Однако многие хозяйства использовали это право как способ ограничить свое участие в труде на общественных полях и фермах, чтобы больше уделять внимания ведению ЛПХ. Меры по стимулированию индивидуальных подворий, принятые правительством Г. М. Маленкова в целях предотвращения острого продовольственного кризиса, противоречили программе стимулирования колхозов и в целом не способствовали развитию общественного производства. Работники сельхозартелей были поставлены перед выбором: где следует трудиться больше – в коллективном хозяйстве или в личном? Ответ нашелся быстро: мужчины расходуют больше времени на труд в колхозе, особенно в период проведения основных полевых работ, женщины – на труд в домашнем хозяйстве. Это решение колхозные коллективы по указанию партийных органов скорректировали в пользу развития общественного производства, в том числе приняв меры по борьбе с тунеядцами. При этом учитывались интересы хорошо работающих колхозников и тех, кто нуждался в социальной защите.