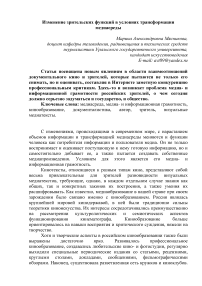Изменение зрительских функций в условиях трансформации медиасреды
Автор: Мясникова Марина Александровна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена новым явлениям в области взаимоотношений документального кино и зрителей, которые пытаются не только его снимать, но и оценивать, составляя в Интернете заметную конкуренцию профессиональным критикам. Здесь-то и возникает проблема медиа- и информационной грамотности российских зрителей, о чем сегодня должно серьезно задуматься и государство, и общество.
Медиасреда, медиа- и информационная грамотность, кинообразование, документалистика, автор, зритель, визуальные медиатексты
Короткий адрес: https://sciup.org/147218256
IDR: 147218256
Текст научной статьи Изменение зрительских функций в условиях трансформации медиасреды
С изменениями, происходящими в современном мире, с нарастанием объемов информации и трансформацией медиасреды меняются и функции человека как потребителя информации и пользователя медиа. Он не только воспринимает и оценивает поступающую к нему готовую информацию, но и самостоятельно добывает ее, а также пытается создавать собственные медиапроизведения. Условием для этого является его медиа- и информационная грамотность.
Кинотексты, относящиеся к разным типам кино, представляют собой весьма привлекательные для зрителей разновидности визуальных медиатекстов, требующие, однако, в каждом отдельном случае знания как общих, так и конкретных законов их построения, а также умения их расшифровывать. Как известно, медиаобразование в нашей стране при своем зарождении было связано именно с кинообразованием. Россия являлась крупнейшей мировой кинодержавой, в ней были традиционно сильны теоретики киноискусства. Их интересы сосредотачивались преимущественно на рассмотрении культурологических и семиотических аспектов функционирования кинематографа. Кинообразование больше ориентировалось на навыки восприятия и критического суждения, нежели на творчество.
Хотя и творческие аспекты в российском кинообразовании также были выражены достаточно ярко. Развивалось профессиональное кинообразование, создавались любительские кино- и фотостудии, регулярно выходили специальные периодические издания со статьями, рецензиями, круглыми столами, докладами, сообщениями, фильмографическими обзорами. Наконец, существовала разветвленная сеть кружков и киноклубов.
Не только зрители, но и само киноискусство развивались при содействии кинообразовательных и кинолюбительских сообществ.
Именно киноклубы нередко становились эффективными площадками для творческих встреч кинематографистов со зрителями, на которых первые получали трибуну, поддержку и мощный заряд для творчества а вторые – новую информацию и новые знания о кино. Многие отечественные режиссеры, ставшие впоследствии первыми величинами в нашем киноискусстве, получили регулярный доступ к своему зрителю именно в клубных аудиториях. Вспомним нелегкие кинематографические судьбы многих ныне признанных мэтров отечественного кино, активно поддержанных своими зрителями вопреки мнению чиновников.
Нет сомнения, что факт рождения на заре перестройки до сих пор успешно функционирующего в Екатеринбурге Всероссийского Открытого фестиваля документального кино «Россия» тесно связан с тогдашним существованием именно в этом городе клуба неигрового кино с его преданным зрительским активом. Кроме того, все годы фестиваль поддерживают, выпуская пресс-релизы, студенты факультета журналистики Уральского государственного (ныне федерального) университета во главе с автором этих строк. Все попытки увести фестиваль в другой город терпели фиаско именно в силу отсутствия в иных местах достаточно подготовленного зрителя.
Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей считает, что, к сожалению, «в нашей стране пока не предполагается перспектив выхода кино к публике» (Имеет ли Doc право на art 2010, с. 102). А между тем, это особая работа. По мнению эксперта, «документальное кино требует от зрителя в сто раз большей подготовленности, интеллектуальных усилий, чем игровое, <…> большой эстетической изощренности, особых умений смотрения» и т.д. (Имеет ли Doc право на art 2010, с. 102). Для понимания настоящего кино «(и наслаждения им) нужна особая культурная подготовленность в сочетании с живостью мировосприятия» (Кинопроблемы. doc. Российское документальное кино как реальная драма 2009, с. 76), – подтверждает критик документального кино Виктория Белопольская.
Однако документалистика сегодня заперта уже даже не на площадках киноклубов, где публика всегда была достаточно демократична, а в так называемых «гетто» фестивалей, аудитория которых не только не является по-настоящему массовой, но преимущественно составлена из представителей профессионального кинематографического сообщества. Обучением же восприятию кино широкой публикой, а уж тем более кино документального, у нас практически не занимается никто, хотя говорят об этом немало. «Таких институций у нас нет, – утверждает тот же Д. Дондурей, – телепрограмм таких нет, в школах и вузах ничего подобного нет. Сами документалисты не могут, естественно, прорваться в эфир через заборы телебизнесменов» (Имеет ли Doc право на art 2010, с. 102).
А между тем, по мнению режиссера-документалиста Дмитрия Лунькова, роль зрителя не сводится к функции простого потребителя. «Документальный <…> фильм – открытая система, куда включён и зритель, – на правах одного из авторов. Он-то, зритель, в конце концов, додумывает, домонтирует фильм. Конечно, и в документальном фильме есть замысел, решение, режиссура. Это тоже своеобразный частокол, которым обнесено документальное действие. Но в этом частоколе предусмотрены открытые проходы» (Луньков Д. – Джулай Л. 2001, с. 104).
Здесь не зря употреблено слово «открытые». Ведь речь идет о доверии автора и к воспринимающему его зрителю, и к самому отражаемому материалу. Автор не должен жестко навязывать жизни свои решения, вопреки ей самой, как это нередко бывало в советское время. «Неуместны умственные комбинации из самой жизни. Неуместно авторское, на гордыне взращённое вмешательство, – считает Д. Луньков. – В других искусствах всё проще, там художник оперирует не адекватным жизни изображением, не слепком, не первичными (всегда божественными) картинами, а вольными отражениями, трансформированными фантазией и часто рождёнными ею» ( Луньков – Джулай 2001, с. 105).
Однако по свидетельству выдающегося лингвиста Вячеслава Вс. Иванова, Андрей Тарковский, для которого границ между игровым и документальным кино вообще-то не существовало, огромное значение придавал именно документализму в кино. Он «считал, что фильм должен строиться на основе реальной жизни» (Иванов 2010, с. 128). Известно, что в своей выдающейся картине «Зеркало» он намеревался запечатлеть документальные воспоминания собственной матери – Марии Ивановны Вишняковой, однако ему это запретили. И он снял актеров, хотя и мать, и голос отца-поэта в ленте присутствуют, задавая ей необходимую живую и одновременно поэтическую интонацию.
Тяга к новому документализму особенно остро ощущается сегодня. В современном неигровом кино происходят очевидные трансформации в сторону так называемого «нового натурализма», вышедшего из недр датируемого 2005 годом кинематографического направления «Кинотеатр. doc» и «освященного» манифестом режиссера Виталия Манского «Реальное кино». Но здесь для зрителя возникают новые «подводные камни». Документалисты охотятся за мгновениями абсолютной достоверности, «ищут пограничные ситуации, снимают фильмы по нескольку лет, добиваются натурализма» (Сычев 2011, с. 93), а зрители верят происходящему на экране все меньше. «В новых фильмах есть исповеди, но фальшивые (или отдающие фальшью, что для зрителя одно и то же). Есть проповедь, но более завуалированная, чем в 30-е годы, когда голос за кадром подробно объяснял, что нужно рассмотреть в кадре. Так, чернуха последних лет настаивает на том, что только в негативной картинке и есть подлинность человеческого бытия, а остальное – от лукавого. <…> Фильмы, снятые на телефон, на хоум-видео, снятые самими героями в любой форме, одинаково недостоверны», – утверждает критик Сергей Сычев (Сычев 2011, с. 96). И причину происходящего он видит в исчезновении из кино автора: «почему-то моменты высочайшего уровня контактов зрителя и экранного героя как реального человека наблюдаются именно в фильмах с авторским контролем, обозначенной позицией, активным отношением к происходящему» (Сычев 2011, с. 96).
И все же автор не исчезает. «”Смерть автора” и тому подобные хлесткие выражения в лучшем случае не более чем способ привлечь к проблеме внимание профанов, – убежден критик Виктор Матизен. – Авторство, как энергия, никуда не исчезает, а лишь меняет форму, и задача киноведения – не оповещать публику о смерти объекта исследования, а найти его. Нечто подобное происходило в русской прозе 60-70-х годов ХХ века, <…> автор вовсе не пропал и не растворился в персонажах, а лишь сменил позицию, выражая свои интенции уже не прямо, а опосредованно, путем сопоставления разных голосов или противоречивых высказываний одного персонажа…» (Матизен 2011, с. 99-100). То же самое наблюдается и в современном документальном кино. Сложилась даже новая эстетика, некий новый документальный стиль: кинонаблюдение за жизнью ведется не извне, а изнутри бытовой ситуации; не просто с близкого расстояния, но часто с участием близких людей. Жизнь отражается на экране без музыки; без выстраивания кадра и использования трансфокатора; без синхронных интервью; ручной, маленькой, полупрофессиональной цифровой камерой. При этом тот же Виктор Матизен полагает, что «нечеткое или слишком резкое изображение, косые ракурсы, композиционный дисбаланс в кадре, кислотные цвета – все это может быть <…> не признаком плохого качества, а признаком иной эстетики». Новой эстетики. (Кинопроблемы. doc. Российское документальное кино как реальная драма 2009, с. 91).
Как мы помним, Д. Луньков писал о том, что автор должен брать в союзники зрителя, В. Матизен же констатирует, что авторство сегодня явно меняет форму. Теперь зритель выступает уже не как соавтор, а как самостоятельный автор документального видеотекста: «Когда видеокамеры стали общедоступны, произошла “антропологическая революция”: появился новый вид homo sapiens – homo shooting, или «человек снимающий видеокамерой», которая стала таким же естественным его придатком, как револьвер у героя вестерна или мобильник у героя современного фильма, и которая дала ему возможность фиксировать то, что в силу понятных причин практически недосягаемо для киноаппарата» (Матизен 2011, с. 101).
Вопрос в том, каков он сегодня, этот человек снимающий, «на какой он “ставке сидит” – режиссера или персонажа» (Белопольская 2011, с. 103). Важно понять, – пишет критик Виктория Белопольская, – «документальное кино – это когда то, что снято, больше не случится, никогда не повторится и что никто другой, кроме снимающего вот сейчас, не снимет, не увидит, не заметит, не рассмотрит. Только он-то и важен – снимающий. В этом смысле документальность для меня синоним таланта, личной неповторимости». (Белопольская 2011, с. 103). Если же человек снимающий лишен авторского взгляда, если он просто «человек толпы», а вовсе не автор, тогда «наступает уже не смерть автора, а смерть героя, <...> но при этом герой все-таки должен стоить съемки. Должен что-то значить», - подчеркивает эксперт. (Белопольская 2011, с. 103). Значит, дело не в технике, а в смысле снимаемого, в том, кто, что, как, зачем и для кого создает данный визуальный текст.
Итак, что мы имеем? Сегодня зрители получили возможность сами снимать кино, равно как и выступать в роли самостоятельных критиков медиатекстов, при этом, однако, часто не беря в расчет, тот факт, что это реально достижимо лишь при условии обладания целым рядом компетенций - установок, знаний, навыков и умений в области медиатворчества, то есть при условии понимания того, что у медиатекстов есть свои собственные законы, о которых следует помнить и которые необходимо изучать. В свое время А. С. Пушкин дал блестящее определение критики как науки (выделено мной - М. М.) «открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы». Классик писал, что критика «основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений» (Пушкин 1958, с. 159). Таким образом, по мнению А. С. Пушкина, критика, безусловно, нуждается в знании законов построения текстов, но она также предполагает и активную гражданскую позицию автора, и самостоятельный отбор, осмысление, интерпретацию информации, и способность к критическому мышлению.
Мы говорили выше о том, что раньше кинообразование было у нас больше ориентировано на отработку навыков восприятия и критического суждения, чем на создание собственных медиатекстов. Сегодня тяга к творчеству явно «овладела массами». Об этом можно судить уже по тому, как на уроках кинограмотности в одной из екатеринбургских школ дети во 2м и 3-м классах не только увлеченно смотрят и обсуждают мультфильмы, но и пытаются делать их сами с помощью собственных мобильных телефонов. Хотя школ, где есть подобные уроки, у нас крайне мало. Процессы обретения медиа-информационной грамотности сегодня протекают, в основном, за пределами традиционной образовательной среды. Как справедливо отмечает исследователь А. Шариков, «в отличие от предыдущих поколений, большинство учащихся XXI века имеют мобильные устройства, снабженные фото- и видеокамерами, микрофоном и доступом в Интернет. Создание аудиовизуальных материалов перестало быть сложной задачей. Отсюда постоянно расширяющееся количество фотографий и видеоматериалов, аудиозаписей, выкладываемых в Интернет, ежеминутно пересылаемых своим знакомым, для чего постоянно необходимы навыки работы с информацией. Это <...> фактор, который обуславливает потребность в сближении информационной и медиаграмотности» (Шариков 2013, с. 124).
Что касается кино, то «рядовой зритель вторгся сразу в три различные святая святых киносообщества. Он сам для себя снимает - пусть только автомобильные аварии на видеорегистратор и котиков на «мыльницу». Сам себе занимается дистрибьюцией. <...> Но самое главное - обыденный зритель сам с собой приходит к консенсусу относительно качества предлагаемого к просмотру» (Корнеев 2012, с. 5).
В итоге с одной стороны, в Интернете развивается «любительское киноискусство», не всегда, между прочим, равносильное низкокачественному или дилетантскому. С другой, в сетях получила развитие так называемая «обыденная», «народная» кинокритика, или «критика низов», которую В. Белопольская пренебрежительно определила как «назаборную критику от души», «в которой нет идей, есть только Позиции» (Белопольская 2005, с. 81). Главные ее задачи – оценка в виде звездочек и самореализация. Обыденные критики «не имеют ни профессионального статуса, ни какой-либо специальной подготовки. Уровень рецензий, если оценивать его с профессиональных позиций, в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Тем не менее подобные тексты достаточно востребованы. Они способны не только вызвать значительный интерес и бурные дискуссии, но и повлиять на прокатную судьбу картины» (Давыдова 2012, с. 9), – заключает Мария Давыдова. По ее наблюдениям, тексты обыденных критиков содержат личный, субъективный эмоциональный опыт восприятия; совершенно неприемлемые для профессиональных рецензентов самоописания авторов и часто высказываемые в ультимативной форме рекомендации к просмотру; потребительский уровень общения с искусством; самоидентификацию в качестве «лидера мнения»; конструирование «своего в доску» образа читателя и то разговорную, то эклектичную лексику. Сообщество обыденных критиков – это, по сути, самоорганизующаяся общественная структура, которая «выстраивается в пирамиду, опираясь на почти безымянный пласт людей, собственного мнения почти не имеющих. Не насмотренных, с размытым, а часто испорченным вкусом, – как пишет Роман Корнеев. – <…>
Чуть выше в этой облачной иерархии расположены плотные группы “киноманов по интересам”, фанатские сообщества отдельных личностей или франчайзов <…> Доступность видеоносителей <…> выпестовала широкий пласт невероятно подкованных зрителей, чья насмотренность, в том числе киноклассики, превосходит все возможности профильных киновузов». (Корнеев 2012, с. 6-7). В конечном итоге, отдельные критики-зрители начинают успешно конкурировать с профессионалами, которые, жалуясь «на давление со стороны непрофессионалов, рискуют просто отстать от зрителя, когда тот знает больше и ориентируется в современной ситуации в мировом кинопроме лучше, чем иной искусствовед с дипломом» (Корнеев 2012, с. 8).
Получается, что зрительская активность подвигает профессионалов к мобилизации своих творческих сил. Вместе с тем, сами кинозрители благодаря развитию медиа- и информационной среды перестают быть просто зрителями, самоорганизуясь в некое новое, самодостаточное и институционально оформленное сообщество, способное производить и оценивать визуальные медиатексты. Другое дело – каково качество последних? Здесь-то и возникает проблема медиа- и информационной грамотности российских зрителей, о чем серьезно должно задуматься и государство, и общество.
Список литературы Изменение зрительских функций в условиях трансформации медиасреды
- Белопольская В. В поисках новой документальности. На смерть героя // Искусство кино, 2011, № 9, с. 101-103.
- Белопольская В. Клиническая жизнь // Искусство кино, 2005, № 11, с. 80-82.
- Давыдова М. «Вышибающий “мурашку” катарсис». Обыденная кинокритика в социальных медиа // Искусство кино, 2012, № 11, с. 9-21.
- Иванов В. «Документализм – единственное, что осталось в кино» // Искусство кино, 2010, № 12, с. 127-131.
- Имеет ли Doc право на art // Искусство кино, 2010, № 12, с. 101-114.
- Кинопроблемы. doc. Российское документальное кино как реальная драма. // Искусство кино, 2009, № 4, с. 73-104.
- Корнеев Р. Кинокритики с торрентов // Искусство кино, 2012, № 11, с. 5-8.
- Луньков Д. – Джулай Л. Увидим ли небо в алмазах? (постфестивальные диалоги) // Документальное кино эпохи реформаторства. М. : Материк, 2001. C. 104, 105.
- Матизен В. Хомо шутинг // Искусство кино, 2011, № 9, с. 97-101.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т., 2-е изд., М. : Изд. Акад. наук СССР, 1958, т. 7, с. 159-160.
- Сычев С. Документальная ложь // Искусство кино, 2011, № 9, с. 91-96.
- Шариков А. В. В поисках общего методологического базиса теорий медиаобразования и информационной грамотности // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания. М. : МЦБС, 2013, с. 122-129.