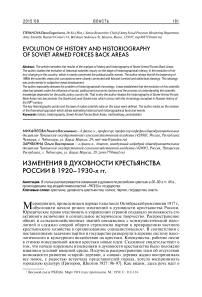Изменения духовности крестьянства России в 1920-1930-х гг
Автор: Михайлова Рената Васильевна, Зарубкина Ольга Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются изменения в духовности российских крестьян в 20-30-х гг. ХХ в., происходившие под воздействием властей -РКП(б) и государства.
Крестьяне, духовность крестьянства, колхоз, партия, государство, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170168057
IDR: 170168057
Текст научной статьи Изменения духовности крестьянства России в 1920-1930-х гг
М ероприятия, проведенные в первые годы после Октябрьской революции 1917 г., обусловили начало резких изменений в духовности крестьянства России.
Юридическое право участвовать в управлении страной создавало возможность его активного включения в сознательное историческое творчество. Распространение общих и сельскохозяйственных знаний связывалось с коммунистической идеологией и служило опорой общего стремления партии к превращению частного крестьянского хозяйства в организованное социалистическое1. В соответствии с поставленными задачами партия и государство развернули в деревне систему идеологического и культурного воздействия на крестьян. Коммунисты, рабочие несли в стихию повседневной жизни крестьян новые идеи. Сказанное свидетельствует о том, что начало коренным изменениям в духовности крестьянства было положено влиянием условий внешней среды. Получила распространение идея об отсутствии возможности развития «старой» деревни, а «новая» деревня жадно воспринимала все новое, с радостью встречала представителей города, хотела воспринимать городскую культуру [Григоров, Шкотов 1927: 96-97]. Как видим, здесь речь идет о сочетании двух начал – отрицания прежних традиционных ценностей и абсолютизации будущего.
С переходом к колхозной жизни на смену привычному индивидуалистически ориентированному сознанию крестьянина («хозяйство мое, и работаю я на себя») должно было прийти другое, новое общественное сознание. Последнее означало, что хотя человек работает в общем хозяйстве, но работает он на себя, поскольку его частный интерес находит выражение в интересах коллектива. Таким образом, с конца 1920-х – начала 1930-х гг. в российском обществе крестьян (колхозников) возникла специфическая проблема согласования личных, групповых и общественных интересов.
Прежде всего, произошло изменение механизма привязки индивида к традиционной (неформальной) малой группе – семье, соседям, деревне. Политические средства, исходящие от партийно-государственной власти, стали средствами навязывания извне иных субъектов малой группы – колхоза, бригады, звена. Эти искусственные образования, созданные по инициативе «сверху», способствовали разрыву естественных связей граждан. Одну форму коллективизма (являвшуюся продуктом развития органической малой группы) предполагалось заменить другой, простирающейся до пределов всего общества (находящегося вне пределов досягаемости локального сознания крестьян). Но это сознание не охватывало даже пространства колхоза, поскольку оно было для них «чужим». Колхоз, состоящий зачастую из нескольких деревень (границы его часто менялись на разных стадиях российского общества), в результате так и не стал для крестьянина органической малой группой, оставаясь формальной производственной единицей. В непростых отношениях крестьянина с колхозом проявился дуализм его индивидуального бытия. С одной стороны, в труде в крупных коллективных хозяйствах, ставших основным субъектом организации жизни российского крестьянства, он воспроизводил систему своих трудовых привычек. Это выражалось в том, что большую часть времени крестьянин отдавал работе на общественном производстве, остальное время – хозяйствованию на собственном дворе. Как правило, это были выходные и праздничные дни, что соответствовало и официальной установке, ибо общественно-полезной направленности людей отдавалось явное предпочтение перед личными интересами. С другой стороны, отношение людей к колхозу в целом было не как к постороннему, чужому, а как к своему объекту, до границ которого как бы расширялся семейный двор крестьянина. Так, в колхозном труде крестьянин воспроизводил привычки своего двора – заботиться сразу о многом, стремясь извлекать выгоду и ресурсы выживания из всего. «Народные» пословицы свидетельствовали о реальном отношении крестьян к колхозу: «На колхозном поле всего вволю», «В колхозе сила, без колхоза могила» и т.д. [Кудюкина 2010: 236].
В соответствии с идеологической установкой приоритета духовных мотивов к труду по сравнению с материальными, крестьяне вынуждены были осуществлять высокие трудовые затраты при низком материальном вознаграждении. В таких условиях у них формировалась привычка отказываться от поставленных целей (или резко их ограничивать), от мобилизации средств и отсрочки вознаграждения. Понимание хлеборобом того, что работа в общественном хозяйстве не приносит ему ни высоких доходов, ни морального удовлетворения, способствовало отсутствию у него заинтересованности в высокопроизводительном труде. До определенного времени крестьяне все же пытались сопротивляться. Так, в 1930-х гг. исследователями отмечено сопротивление крестьян нормированию трудовой деятельности в колхозах и совхозах. Оно, в частности, выражалось в стремлении начать работу не в административно установленные часы, а в 3–4 часа утра. В ходе обсуждения проекта «сталинской» Конституции в 1936 г. поступало немало писем от крестьян с жалобами на тяжелую жизнь в колхозах, на их бесправие по сравнению с рабочими. Колхозники обращались с предложениями заменить трудодни ежемесячной денежной оплатой, «как в городе». Некоторые колхозники и крестьяне-единоличники предлагали наделить их правом «создавать при сельсоветах крестьянские союзы, которые бы заботились о всех крестьянских нуждах» [Зеленин 1996: 28].
Рациональные мотивы и, прежде всего, гражданское сознание необходимости порядка и власти, позитивное мышление крестьян, глубоко захватывавшее не только их частные интересы, партийно-государственной бюрократией часто в расчет не брались. В этих условиях все изменения движения души и сознания крестьян происходили сложно, болезненно, мучительно.
Фактически в России произошел разрыв между мотивацией крестьян и технизацией сельского хозяйства. В ходе реализации нэпа технический и агротехнический прогресс осуществлялся в основном в том же направлении, что и в дореволюционной деревне. В крестьянской практике стали все шире использоваться минеральные удобрения, сеялки, косилки, а также внедряться культура интенсивного земледелия. В этом смысле крестьянин стал участником культурно-цивилизационных процессов. С созданием в Советской России колхозов и совхозов в сельское хозяйство пришли автомобили, трактора, комбайны. Это было необходимо по ряду причин. Но, к сожалению, и тут дело не обошлось без духовных и экологических издержек.
В известной мере нарушились органические связи природы и крестьянина, что вело к дисгармонии между ними. Побуждения, в силу которых крестьянин проявлял интерес к технико-технологическим новациям, не всегда оказывались востребованными. В процессе индустриализации сельского хозяйства, введения других новаций не принималось в расчет то, что они не должны были «разрушить мировоззренческое ядро, сердцевину отвоеванной в жестоких столкновениях XVII– ХVIII вв. собственной культуры. Сутью этого мировоззрения была принципиальная космоцентричность, стремление любой новый порядок вещей и любое техническое нововведение приводить в соответствие с моделью идеального равновесия вселенной» [Мяло 1988] (сейчас это называется экологическим подходом).
В условиях невостребованности крестьянского опыта происходило абстрагирование от реальных взаимосвязей, и в окружающей среде устанавливались границы там, где этого делать было нельзя. Из рассогласованного типа взаимодействия человека с природой, разрыва крестьянина и природы следовало, что совершалось разрушение как природы, так и самого человека, когда жизнь и духовность отрываются от физического тела человека.
Однако если общественный сектор (колхозы и совхозы) постепенно способствовал отчуждению крестьянина от земли, ослаблению у него социально-экономических основ «чувства хозяина», то в собственном хозяйстве он стремился по возможности поддерживать названные личностные качества. Правда, при этом в обществе существовала принципиальная позиция: укрепление личного хозяйства крестьянина противоречит коммунистическому идеалу.
Классовый принцип с целью «пролетаризации» общества приводил к тому, что наиболее опытные крестьяне (как и рабочие) мобилизовывались на различные участки культурного пространства, «отсасывались» из сельского хозяйства. Речь идет об исчезновении причин, при которых только и возможна культура: не стало уникальных условий жизни, порождающих особый строй души, склад ума. Однако и в этих условиях порою великолепно проявляли себя отдельные культуротворящие крестьянские личности. К таким ярким индивидуальностям со склонностью к творческой работе духа относился Т.С. Мальцев, рядовой крестьянин из Курганской области, ставший академиком. Самостоятельно, путем опытов он пришел к пониманию пользы многолетних трав, безотвальной пахоты, предложенной еще проф. П.А. Костычевым. Среди российских крестьянских имен было известно и имя С.К. Короткова из Чувашии. На бесплодной, скудной подзолистой почве, ставшей затем плодородной, с середины 30-х гг. несколько лет подряд руководимый им колхоз получал урожаи пшеницы, ржи, овса по 150 пудов с гектара и более 1 .
Становится понятным, что изменилась организация всей хозяйственной и культурной жизни крестьянина. Его повседневная жизнь стала всецело ориентироваться на внешние по отношению к духовности силы, допускавшие субъективизм и волюнтаризм в своих действиях. В этих условиях каждый отдельный крестьянин со своим двором был обречен на собственную жизнь, отличную от жизни и труда в общественном секторе сельского хозяйства.
Сказанное позволяет делать вывод о том, что во многом нарушилась специфика духовности крестьянства: произошло ее упрощение (вульгаризация) как составной части всеобщего упрощения культуры.
Список литературы Изменения духовности крестьянства России в 1920-1930-х гг
- Григоров Г., Шкотов С. 1927. Старый и новый быт. М.: Молодая гвардия
- Зеленин И.Е. 1996. Крестьянство и власть в СССР после «революции сверху». -Вопросы истории. № 7
- Кудюкина М.М. 2010. Сельсовет в 1920-е годы: между крестьянином и сельсоветом. -Крестьянство в российских трансформациях: исторический опыт и современность. Материалы III Всероссийской (XI Межрегиональной) конференции историков-аграрников Среднего Поволжья (Ижевск, 17-19 октября 2010 г.) (отв. ред. Г.А. Никитина). Ижевск: Удмуртский университет
- Мяло К. 1988. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция. -Новый мир. № 38