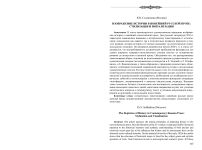Изображение истории в новейшей русской прозе: стилизация и визуализация
Автор: Солдаткина Янина Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются художественные принципы изображения истории в новейшей отечественной прозе. Для русской литературы XXI в. характерно повышенное внимание к историческому повествованию и эстетическому осмыслению как давнего, так и относительно недавнего прошлого в силу того влияния, которое история и ее оценки оказывают на отечественную социокультурную ситуацию. На материале романистики начала 2020-х гг. в статье показывается, что востребованность исторической проблематики фиксируется для самого широкого жанрово-стилистического спектра текстов: от исторических романов до антиутопии и женской прозы. Объединяют все эти разноуровневые повествования общие установки на использование приемов художественного документализма, которые последовательно стилизуются и Л. Улицкой, и Л. Юзефовичем, и Е. Водолазкиным, а также обращение к принципам кинопоэтики, объясняемое устойчивой тенденцией современной массовой культуры к визуализации художественных текстов. В статье делается вывод о том, что стилизация форм документального повествования функционально призвана создать иллюзию эмоциональной и документальной достоверности, необходимой для изображения исторических событий и соотносящейся с многочисленными примерами литературы «нон-фикшн», воспринимаемой в качестве свидетельства очевидца. Введение таких элементов, близких к кинопоэтике, как монтажность, неожиданное чередование нескольких сюжетных линий, нагнетание напряжения служат для усиления читательского интереса к литературному тексту в условиях вынужденной конкуренции за аудиторию с визуальными искусствами.
Историческое повествование, новейшая русская проза, женская проза, художественный документализм, визуализация, стилизация, кинопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149139957
IDR: 149139957
Текст научной статьи Изображение истории в новейшей русской прозе: стилизация и визуализация
В современной отечественной прозе исторический нарратив играет одну из ведущих ролей, демонстрируя обостренный социокультурный запрос на переосмысление истории государства. В эстетическом плане историческое повествование демонстрирует широкий спектр жанровостилевых вариаций, свидетельствующих как о подвижности жанровых границ современной прозы [Некрасова 2017], в современных условиях интерпретирующей исторические события в диапазоне от семейно-бытового романа до антиутопического дискурса, так и о пластичности поэтики исторической прозы, впитывающей в себя элементы и элитарной, и массовой культур.
Установка на визуализацию, свойственная современной цифровой вселенной, в которой практически любой словесный текст может быть сопровожден или вовсе заменен текстом визуальным, с одной стороны, способствует развитию такого феномена, как интерпретация литературы другими видами искусств (от традиционных до сетевых), но, с другой, побуждает литературу все активнее применять визуальные техники повествования: от классического экфрасиса до внутритекстовой интермедиальности и специфических композиционных приемов. Взаимовлияние литературы и кино, близость литературной и кинопоэтик активно осмысляется теоретиками литературы еще с первой трети XX в., в частности, в ставшем классическим труде «Поэтика кино» (1927), объединившем размышления Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского и др. [Тынянов, Шутко, Эйхенбаум 2016]; становится предметом научного осмысления в работе Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста», в котором в рамках главы, посвященной композиции словесного художественного произведения, поднимаются вопросы соотношения кинематографического понятия «плана» и литературного текста, точки зрения текста, сопо-ложенности разнородных элементов как принципа композиции [Лотман 1998, 249-269]. Феномен литературной кинематографичности, свойственной современной литературе в ее взаимодействии с визуальной культурой, прежде всего - кинематографом, включающей в себя как приемы монтаж-
ной композиции, так и устойчивую тенденцию к созданию у читателя визуального восприятия литературного текста, рассматривается И.А. Мартьяновой: «Литературная кинематографичность была определена нами <.. .> как характеристика текста с преимущественно монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения», причем «...она обусловлена не только возможным влиянием кинематографа, но самой потребностью автора динамизировать изображение наблюдаемого, остранить его фрагменты в монтажном сопряжении. Она мотивирована его стремлением руководить читательским восприятием, создавая неожиданные перебросы в пространстве, сжимая или растягивая время текста, варьируя ракурсы и планы изображения» [Мартьянова 2017, 138]. Применительно к современному историческому повествованию востребованность визуальных механизмов свидетельствует о вынужденной необходимости конкурировать за внимание читателя с рекреационными ресурсами (сериалами, компьютерными играми и другими виртуальными визуальными развлечениями), что заставляет вспомнить о историко-генетической близости исторической прозы авантюрным и приключенческим жанрам, которые традиционно относятся к сфере массовой культуры [см., например: Козьмина 2017].
Не меньшее влияние на структуру и стилистику исторического повествования оказывает сформировавшийся во второй половине XX в. научно-исследовательский интерес к культуре повседневности [Пушкарева, Любичанковский 2014], который способствовал популяризации изучения и художественного воспроизведения частных форм исторического дискурса (писем, воспоминаний, заметок, интервью), отражающих исторический процесс не через описание эпохальных событий и известных политических и общественных деятелей, но через восстановление подробностей ежедневного бытового поведения, особенностей мировосприятия и «обывательского», негероического взгляда на мир и историю. В сюжетах, посвященных литературному осмыслению трагических перипетий XX в., эта тенденция сопрягается с одной из ключевых для словесности прошлого и нынешнего столетий повествовательных стратегий - с художественным документализмом [Местергази 2007; Анохина 2013; Волкова 2015], рассматривающим личное устное или письменное свидетельство очевидца в качестве исторического документа, равнозначного официальным документам и артефактам, а также - с авторефлективными способами развертывания повествования [см., например: Муравьева 2019].
Наиболее показательно названные черты современной литературной интерпретации истории проявляются в прозе 2000-2010-х гг. Л.Е. Улицкой, в частности, в романах «Даниэль Штайн, переводчик» (2006), отчасти «Зеленый шатер» (2011), «Лестница Якова» (2015). Внимание к частному бытию, к камерной семейной версии Большой Истории, к отображению повседневных эмоций и впечатлений, оттеняющих и подменяющих собой изображение исторических потрясений, свойственно женской прозе как эстетическому явлению [Абашева, Воробьева 2007; Попова, Любезная 2008], но Улицкая в указанных текстах претендует на создание обобщенного портрета поколения (послевоенной эмиграции, отечественного диссидентства, советской творческой интеллигенции), однако, используя при этом структурные элементы, близкие к художественному документализму и смещающие фокус повествователя, анализирующего историю XX в., в сторону частных судеб и личных сюжетов.
Так, в «Лестнице Якова» для создания линии вымышленного персонажа Якова Осецкого Улицкая, по ее собственному свидетельству, использует подлинные письма своего деда, что дает ей повод говорить об эволюции своего стиля в сторону литературы «нон-фикшн», документальной прозы: «Я двигаюсь в сторону нон-фикшн, и мне это нравится. Ощущение, что жизнь собираешь из этих обрывков, перышек - писем. Письма на меня воздействовали. Я должна была найти форму. Я боялась писем -тех скелетов, которые сыпались оттуда» [Скорондаева 2015]. Документальная природа романа «Даниэль Штайн, переводчик» также очевидна: за вымышленным персонажем пастором Штайном стоит реальный пастор Освальд Руфайзен, чья судьба подробно и узнаваемо отражена писательницей, а текст романа собран из писем, воспоминаний, протоколов допросов, интервью, данных Штайном немецким школьникам, и другого рода личных и медиадокументов, имитированных Л. Улицкой. Эпистолярные и медиаформы, сочетаемые с несколькими «авторскими» письмами самой Улицкой, адресованными переводчице и издателю Елене Костюко-вич, призванными если не разрушить, то оттенить художественное пространство как «вымышленное», на деле сходны по функциям: они должны сформировать у читателя иллюзию достоверности рассказанного, придать частичному «вымыслу» статус художественного документа, которым роман, несмотря на все его биографические элементы, наличие у многих героев значимых для истории православия XX в. прототипов (иконопи-сица Иоанна Рейтлингер и т.д.) фактически не является. Художественное осмысление недавнего прошлого у Улицкой осуществляется посредством заимствования повествовательных техник художественного документа-лизма, но за счет отсутствия ощущаемой временной дистанции не воспринимается в качестве стилизации.
Новейшая отечественная проза активно совмещает обе вышеуказанных тенденции изображения истории: вышедшие в 2020-2021 гг. романы, в той или иной степени затрагивающие тему рецепции истории, сюжетно и структурно тяготеют к визуальным приемам построения нарратива, а стилистически - ориентируются на воспроизведение специфических «документальных» жанров (в диапазоне от записок до летописей), при этом не обязательно отвечающих свойственных художественным текстам критериям «достоверности» [Сокрута 2019].
Принципы создания собственно исторического повествования могут быть рассмотрены на примере двух недавних романов Л.А. Юзефовича, выигравших первую премию конкурса «Большая книга»: «Зимняя доро-

га» (2015) с авторским подзаголовком «Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922-1923 годы. Документальный роман» и «Филэл-лин» (2020) с подзаголовком «роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками». В первом случае все повествование носит строго документальный характер: автор воссоздает сюжет одного из последних сражений Гражданской войны с привлечением самого широкого круга исторических документов (от архивных единиц хранения до художественных текстов самого Строда), при этом воздерживаясь от прямой оценочности и избегая различных исторических параллелей. Это стремление Юзефовича остаться вне идеологического противостояния и своих героев, и современных интерпретаций Гражданской войны, позволяет писателю, во-первых, раскрыть образы Пепеляева и Строда как подлинно эпических персонажей, одинаково чуждых своему окружению и не принимаемых последующей эпохой, а, во-вторых, сохранить интонацию исследовательской беспристрастности, которая становится одним из средств формирования документальности повествования, побуждая читателей доверять написанному в силу его невымышленности и неангажированности.
В романе «Филэллин», задуманном еще в 2008 г, но целиком опубликованном только в 2020 г, действие разворачивается в 1820-е гг. в России и Греции и связано с греческим освободительным движением. Текст, как обозначено в подзаголовке, представляет собой фрагментированное повествование, состоящее из различных мемуарно-документальных жанров: писем, воспоминаний, дневников, которые вымышлены и филигранно стилизованы самим Юзефовичем. Как справедливо указывает Г.М. Ребель, «в созданном писателем мире много разных взглядов, точек отсчета, упований и неожиданных поворотов судьбы - много жизни, не укладывающейся даже в самые эффектные афоризмы и аллегории, которыми роман тоже изобилует» [Ребель 2021, 620].
Так, в романе представлен «дневник инсургента», написанный Юзефовичем от лица Шарля-Антуана Фабье, прототипом которого стал реальный Шарль Николя Фавье, а такой исторический персонаж, как царь Александр I, раскрывается через призму записок камер-секретаря Елов-ского, в своем отношении к государю напоминающего юного графа Николая Ростова, только выросшего и оставшегося на царской службе. Как отмечает в рецензии Т. Веретенова, «письменная речь персонажей, с одной стороны, явно индивидуализирована: камер-секретарь Еловский выражается литературно и образно, а письменная речь мещанки Натальи Бажиной проста, эмоциональна и близка к разговорной. Но в то же время Юзефович не утомляет читателей откровенной стилизацией под письма двухсотлетней давности, сохраняя лишь некоторые лексические приметы устаревшего языка» [Веретенова 2021, 220]. С нашей точки зрения, речь героев стилизована достаточно ощутимо, особенно в первых эпистолах романа, воспроизводящих официальный дискурс письменных прошений и донесений начальству. По мере перехода повествования к более личным формам стилевая дистанция, воссоздающая атмосферу первой трети XIX в., автором смягчается, но не пропадает вовсе, поскольку не только описывает действия героев, но и раскрывает их психологию, их восприятие и оценки исторических событий. При этом чередование повествователей, стилей, жанров отвечает современным принципам клипового сознания, актуализирующего монтажные приемы построения сюжета. Стремление к визуализации проявляется в романе не только в развернутых описаниях, в частности, афинского Акрополя (множественный экфрасис, отображающий один из ключевых символов романа сначала в виде гравюры, хранящейся у филэллина Мосцепанова, а потом в виде авторской исторической реконструкции облика Акрополя во время войны греков за независимость), но и в заставляющих вспомнить одновременно о кинопоэтике и об авантюрных корнях исторического жанра сюжетных поворотах, таких, как убийство двойника Мосцепанова вместо него самого, внезапный выстрел тоже же Мосцепанова, переворачивающий ход воинской кампании, показанный при этом с разных точек зрения от лица нескольких повествователей. Тем самым в «Филэллине» стилизация личных документов служит, в отличие от «Зимней дороги», не для придания повествованию объективности, но для удержания внимания читателя, для усиления визуализационного потенциала текста и достижения эффекта саспенса [Жогова, Кузина, Медведева, Надеждина 2018, 48], что, вместе взятое, позволяет говорить о присущей роману, несмотря на историческую отдаленность тематики и определенную сложность повествовательной структуры, установке на диалог с массовой аудиторией.
Стилизацию как основную и принципиальную повествовательную стратегию следует назвать и применительно к антиутопии Е.Г. Водолазки-на «Оправдание острова» (2020). Текст романа строится на чередовании, как это свойственно поэтике Водолазкина, двух временных, а в данном случае еще и стилевых пластов: подробной хроники, фиксирующей историю вымышленного Острова, и рассказа о съемках современным французским режиссером Жаном-Мари Леклером биографического фильма («байопика») о не имущих смерти многосотлетних бывших правителях Острова Парфении и Ксении. Кинофрагменты сопровождаются описанием кинодублей, воспроизведением работы режиссера над проектом, контрастирующим с нарочито стилизованными под летописные, создаваемые монахами-хронистами, а затем - под сатирически-утопические в духе «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина «историческими» эпизодами, посвященными становлению политической системы Острова. В предисловии издателя стилевая структура романа интерпретирована следующим образом: «Островную общественность недавно всколыхнуло известие о том, что знаменитая История острова, первая отечественная хроника, имеет, оказывается, продолжение. <...> В своем прежнем виде История Острова публиковалась неоднократно. Она входит в школьные и университетские программы и давно разошлась на цитаты» [Водолазкин 2021, 9]. «С полным текстом Истории острова мы попросили ознакомить-

ся Их Светлейших Высочеств Парфения и Ксению. Их суждения о публикуемом труде казались нам чрезвычайно важными, и они согласились ими поделиться. Записи незаметно приобрели дневниковый характер, чему мы несказанно рады, ведь любое слово княжеской четы - это слово самой истории. С позволения авторов заметки разбиты нами на фрагменты и опубликованы в качестве своего рода комментариев к тексту хроники» [Водолазкин 2021, 10].
Обратим внимание на то, как Водолазкин сознательно обыгрывает избранную им стилевую стратегию: в ней традиционный для исторического сочинения жанр «хроники», предполагающий объективность повествования или же, в средневековых реалиях, ориентированный на эсхатологическую, вневременную перспективу, соединяется с подчеркнуто личными способами осмысления событий (записки, дневники), воспринимаемых в современном контексте в качестве художественно-документальных свидетельств. Оба этих письменных потока, на деле представляющие собой авторскую стилизацию, построены на жанровых элементах, чья семантика заставляет читателя атрибутировать написанное как достоверное, верить тем прозаическим формам, которые соотносятся с подлинным историческим повествованием, но в случае «Оправдания Острова» оказываются фиктивными. С нашей точки зрения, вставной сюжет об экранизации биографии Парфения и Ксении выполняет ту же функцию - придает иллюзию правдоподобия фантасмагорическому и антиутопическому пространству Острова, поскольку кино в массовом сознании идентифицируется как максимально жизнеподобный вид искусства. Не являясь романом историческим в строгом понимании этого термина, «Оправдание Острова» адаптирует ряд классических и современных жанровых стратегий (средневековая хроника, художественный документализм), ассоциируемых с историческим и даже документальным повествованием, попутно актуализируя киномеханизмы (монтаж, фрагментацию, экфрасис), чтобы антиутопи-ческое повествование вызывало доверие у аудитории, маскировало свою иносказательную, притчевую природу с помощью продуманной жанровостилевой игры.
Особенности интерпретации относительно недавнего исторического прошлого в прозе начала 2020-х гг. рассмотрим на примере романа Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» (2021), главным героем которого писательница делает бывшего чекиста Деева, продотрядовца, участника расстрела крестьянок перед ссыпным пунктом, ответственного за продовольственный погром в голодающей Казани, во искуплении своих действий в период Гражданской войны ведущего на Самарканд «гирлянду» - эшелон с пятьюстами истощенными беспризорными детьми под эгидой все того же ЧК: «Все знали, что грозный глава ЧК товарищ Дзержинский руководит и Деткомиссией ВЦИК, по распоряжению которой формируются и курсируют по стране эвакуационные поезда. В том числе и “гирлянда”» [Яхина 2021, 409]. Как для фигуры Деева, так и для всей истории эшелона сюжетообразующим оказывается киножанр «истерна», советской вер- сии «вестерна» (для сравнения приведем «Белое солнце пустыни» (1969), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Шестой» (1981)). Как и в названных фильмах, действие отнесено в эпоху Гражданской войны, разворачивается в среднеазиатском регионе, сопровождается перестрелками, погонями, переодеваниями, жесткой идеологической поляризацией, становящейся основой драматургического конфликта между «своими» (едущими на эшелоне детьми) и «чужими» (белыми-бандитами, басмачами и т.д.), который, тем не менее, разрешается в романе всегда однозначно: плохие «чужие» испытывают перед детьми чувство вины, а потому помогают эшелону по мере сил и возможностей. Близок к образу киногероя и сам Деев, на протяжении всего повествования идеально преодолевающий все возникающие трудности, бесстрашно держащий ответ что перед белыми, что перед басмачами, манипулирующий бывшими коллегами-чекистами ради детей. Кинопоэтика «истерна» не только определяет динамическую подвижность сюжета, но и позволяет Яхиной вызвать у читателя сочувствие Дееву, выполняющему роль «героя-спасителя», активировать эмпатическое сопереживание несчастным детям - «своим», участие в судьбе которых оправдывает все политические силы без исключения. Подобное аксиологическое упрощение прошлого, вероятно, по мысли Яхиной, способствует его детравматизации, а шаблоны остросюжетного массового кино позволяют облегчить восприятие и малой истории, рассказанной Яхиной, а через посредство романа «Эшелон на Самарканд» - и большой истории страны, принять и усвоить происходящее в качестве модели «эмоционального примирения»: безоговорочной победы «своих» над «чужими».
Подводя итоги, отметим, что для современного изображения истории и собственно исторического повествования стилизация в основном реализуется в качестве имитации форм художественного документализма, актуальной повествовательной стратегии, выражающей тяготение современной прозы к форматам «нон-фикшн». В случае рассматриваемых текстов во многом именно за счет использования стилизованных «личных» документов достигается историческая и эмоциональная достоверность всего повествования, семантически и конструктивно необходимая для исторической прозы. Визуализация же, проявляющаяся и на уровне экфрасиса, и, что более существенно, на уровне заимствования композиционных приемов кинопоэтики, призвана расширить читательскую аудиторию, облегчить восприятие сложных исторических событий и процессов, ускорить процесс проживания исторических травм посредством включения в повествование структурных элементов киноискусства, более массового, более красочного и привычного для современной аудитории с ее склонностью к эмоциональному, а не рациональному и эстетическому способу осмысления информации и художественного текста.
Список литературы Изображение истории в новейшей русской прозе: стилизация и визуализация
- Абашева М.П., Воробьева Н.В. Русская женская проза на рубеже XX-XXI веков. Пермь: ПГГПУ, 2007. 175 с.
- Анохина А.В. Проблема документализма в современном литературоведении // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 4. С. 189-194.
- Веретенова Т. Человек, нарушивший предначертания судьбы. Леонид Юзе-фович. Филэллин // Знамя. 2021. № 5. С. 220-222.
- Водолазкин Е.Г. Оправдание Острова. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021. 405 с.
- Волкова С.А. Принципы и приемы выражения авторской позиции в художественно-документальной прозе // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. 2015. № 1. С. 26-31.
- Жогова И.Г., Кузина Е.В., Медведева Л.Г., Надеждина Е.Ю. Языковые средства создания саспенса в произведениях жанра «триллер» и способы их актуализации (на материале романов англоязычных авторов) // Язык и культура. 2018. № 43. С. 46-57.
- Козьмина Е.Ю. Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 292 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство - СПБ, 1998. С. 14-285.
- Мартьянова И.А. Кинематографичность литературного текста (на материале современной русской прозы) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1. С. 136-141.
- Местергази Е.Г. О термине «документальная литература» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 11. С. 174-177.
- Муравьева Л.Е. Авторефлексивные стратегии репрезентации травмы в художественном нарративе (на материале современной французской литературы) // Поэтика и прагматика нарративных практик / А.Е. Агратин, К.А. Воротынцева, О.А. Гримова и др. Екатеринбург: ИНТМЕДИА, 2019. С. 104-125.
- Некрасова И.В. Подвижность жанровых границ в современной русской литературе // Поволжский педагогический вестник. 2017. Т. 5. № 4. С. 117-121.
- Попова И.М., Любезная Е.В. Феномен современной «женской прозы» // Вестник Тамбовского государственного университета. 2008. Т. 14. № 4. С. 10101024.
- Пушкарева Н.Л., Любичанковский С.В. Понимание истории повседневности в современном историческом исследовании: от Школы Анналов к российской философской школе // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2014. № 1. С. 7-21.
- Ребель Г.М. Очарованный странник Леонида Юзефовича // Вестник Удмуртского университета. 2021. Т. 21. Вып. 3. С. 620-627.
- Скорондаева А. «Роман в голове, вот и не спится». Людмила Улицкая представила «Лестницу Якова» // Российская газета. 11 октября 2015.
- Сокрута Е.Ю. О критериях достоверности в художественном нарративе // Поэтика и прагматика нарративных практик / А.Е. Агратин, К.А. Воротынцева, О.А. Гримова и др. Екатеринбург: ИНТМЕДИА, 2019. С. 13-21.
- Тынянов Ю.Н., Шутко К.И., Эйхенбаум Б.М. Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. М.: Академический проект, 2016. 497 с.
- Яхина Г.Ш. Эшелон на Самарканд. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. 507 с.