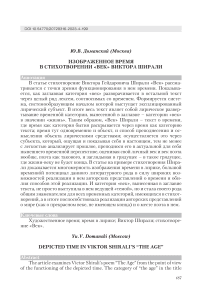Изображенное время в стихотворении «Век» Виктора Ширали
Автор: Доманский Ю.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье стихотворение Виктора Гейдаровича Ширали «Век» рассматривается с точки зрения функционирования в нем времени. Показывается, как заглавная категория «век» разворачивается в остальной текст через целый ряд лексем, соотносимых со временем. Формируется система, системообразующим началом которой выступает эксплицированный лирический субъект. В итоге весь текст являет собой лирическое развертывание временной категории, вынесенной в заглавие - категории «век» в значении «жизнь». Таким образом, «Век» Ширали - текст о времени, где время как категория бытия раскрывается через время как категорию текста; время тут одновременно и объект, и способ преподнесения и осмысления объекта лирическими средствами; осуществляется это через субъекта, который, ощущая и показывая себя в настоящем, тем не менее с легкостью анализирует прошлое, преподнося его в актуальной для себя нынешнего временной перспективе, оценивая свой личный век и век поэта вообще, поэта как такового, и заглядывая в грядущее - в такое грядущее, где жизни-веку не будет конца. В статье на примере стихотворения Ширали доказывается многомерность изображения времени в лирике, большой временной потенциал данного литературного рода в силу широких возможностей реализации в нем авторских представлений о времени и обилия способов этой реализации. И категория «век», вынесенная в заглавие текста, не просто выступила в нем ведущей «темой», но и стала своего рода общим знаменателем для всех временных категорий, имеющихся в стихотворений, а в итоге поспособствовала реализации авторских представлений о мире (как о прекрасном веке, не имеющем конца) и о месте поэта в нем.
Художественное время, время в лирике, виктор ширали, стихотворение «век»
Короткий адрес: https://sciup.org/149144352
IDR: 149144352 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-199
Текст научной статьи Изображенное время в стихотворении «Век» Виктора Ширали
Некогда Д.С. Лихачев сформулировал важную мысль, согласно которой «художественное время – явление самой художественной ткани литературного произведения, подчиняющее своим художественным задачам и грамматическое время, и философское его понимание писателем» [Лихачев 1979, 211]. При этом ученый подчеркивал, что необходимо учитывать уникальную специфику художественного времени в лирике:
«Современная лирика подчинена художественному времени – настоящему и при этом открытому. Она может вводить в свою лирическую ткань судьбы других людей, события своего времени. Лирическая импровизация (импровизационность в каком-то отношении характерна для лирики) может захватывать любые события, являться откликом на всю окружающую поэта действительность, дышать эпохой, воспроизводить “музыку своего времени”, как это было, например, у Блока» [Лихачев 1979, 240].
Добавим к этому высказывание современного исследователя, высказывание несколько полемичное по отношению к мысли Лихачева, но при этом относительно времени в лирике тоже справедливое: «Наиболее свободна в отношении трактовки времени лирика, хотя понимает, изображает его преимущественно как прошедшее. Однако знает время и как настоящее, и как будущее. Последнее характерно для времени, которое в лирическом тексте выступает как персонаж» [Семенов 2020, 110]. Однако при такой широте взглядов на лирическое время оно все же, «будучи опосредовано внутренним миром лирического субъекта, обладает очень большой степенью условности, зачастую – абстрактности…» [Есин 1999, 33].
В связи со всем вышесказанным особый интерес вызывают те случаи в лирике, когда время выступает не только как время художественное, то есть как непременный элемент авторского высказывания, но и оказывается в лирическом тексте объектом изображения, то есть элементом художественного мира и в этом статусе выступает зачастую частью лирического события, ведь «условия возникновения лирического события заданы структурой пространства-времени, особенности которых определяются неотделимостью изображенного мира от воспринимающего сознания» [Теория литературы 2004, 353], при этом «сращение пространственно-временного и ценностного присуще изображающему слову лирики» [Тамар-ченко 2008, 288].
Мы рассмотрим стихотворение Виктора Гейдаровича Ширали (1945– 2018) [о поэзии Ширали см.: Беневич 2004; Беневич 2016; Беневич 2018] «Век», в котором категория, вынесенная в заглавие, развертываясь в остальной текст, оказывается и главным объектом лирической рефлексии, и лирическим событием. Вот текст этого стихотворения с сохранением авторской пунктуации по публикации в третьем номере журнала «Нева» за 2004 год:
ВЕК
У каждого свой век
У каждого свой кайф
С окончанием века собственного
Кайфа становится меньше
На старости знакомлюсь со славной девочкой
Ай лаф ю
Не скажете ли где вы были раньше
Скажем в шестидесятых
Годные были года
Танки утюжили Прагу
Я выхаживал свой заповедник
В саду с золотыми яблоками
Яблоки мне навсегда
То есть милая девочка
Танки были намедни
То есть парадокс истории заключается в том
Что жизнь настолько длинна
Что включает эпоху
И не одну
Не поленитесь
Перелистайте мой том Я был счастлив
Даже когда стране было плохо
Это молодость
Социализм с человечьим лицом
Мне остаётся яблоком
Что стерегут Геспериды Впрочем любые режимы Поэту плохи
Он при всех ни при чём
То есть ему нипочём
Пока пишется
А со смертью
Другие откроются виды.
В данном тексте присутствует, разумеется, и лирическое время, но «Век» Ширали при этом – и стихотворение о времени, то есть время здесь, будучи объектом, изображается через время – как способ преподнесения объекта. Попробуем понять, как это происходит и что дает в результате.
Заглавная категория – век – на протяжении текста понимается отнюдь не как обозначение точного временного отрезка длинною в сто лет, а как синоним слова «жизнь» («срок жизни человека» [Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля], «жизнь» [Толковый словарь Ожегова; Толковый словарь Ушакова]) применительно к конкретному человеку; в данном случае – к лирическому субъекту. В качестве синонима к слову «век» в стихотворении Ширали можно даже применить слово «время», только с учетом того, что это будет именно время личное. При этом заглавная категория отнюдь не единственная лексема в тексте, так или иначе соотносимая с категорией времени; приведем и прочие связанные со временем лексемы из стихотворения Ширали: старость, раньше, шестидесятые, навсегда, намедни, парадокс истории, жизнь настолько длинна, эпоха, молодость, смерть . Как видим, лексический временной состав не только обширен, но и многообразен.
Каким же образом вся эта временнáя лексика формирует систему? Во-первых, системообразующим фактором оказывается эксплицированный субъект, во-вторых, система формируется благодаря заглавной вре-меннóй категории – веку. Само слово «век» содержится уже в первых трех стихах, при этом первые два организованы по принципу параллелизма и к тому же объединены развернутой анафорой:
У каждого свой век
У каждого свой кайф
С окончанием века собственного
Кайфа становится меньше
Век и кайф здесь оказываются контекстуальными синонимами. Анафора же «у каждого свой» задает установку на универсальность как первого (века), так и второго (кайфа), на общность для всех людей того, что представлено в начальных стихах текста. Эта универсальность сохраняется в приложении к временн ы м категориям в тексте до того момента, как появится эксплицированный субъект; первая такая экспликация – глагольная («На старости знакомлюсь со славной девочкой» [курсив мой – Ю.Д. ]). С этого момента универсальное в тексте стихотворения начинает уходить в сторону индивидуального, то есть перед нами уже личное переживание времени. Но при этом и универсальность не исчезает, не исчезает хотя бы потому, что субъект в осмыслении времени апеллирует к общечеловеческим временн ы м категориям, которые, впрочем, иногда оказываются маркированы как поколенческие (например, шестидесятые ), что не отменяет их универсальности, но сокращает число тех, на кого это может быть спроецировано, сокращает до одного и вполне конкретного поколения.
При этом такого рода поколенческой конкретики в стихотворении Ширали довольно мало. Это уже упомянутое указание на шестидесятые, про которые сказано: «Годные были года // Танки утюжили Прагу». И сказано, заметим, в адрес девочки, с которой субъект знакомится «на старости», то есть эти слова находятся не просто в речи субъекта, а в речи изображенной (хотя и не выделенной каким-то особым образом графически, но это уже особенности пунктуационной организации всего стихотворения). Конкретное указание на годы (шестидесятые) в сочетании с топонимом «Прага» и упоминанием танков исторически конкретизирует данный сегмент текста, привязывая его ко вполне определенному событию – вторжение советских танков в Чехословакию в 1968 г. Однако никакой оценки данного события в стихотворении Ширали нет, есть просто констатация факта; другое дело, что все шестидесятые оказались сведены лишь к тому, что «Танки утюжили Прагу»; да и в слове «утюжили» при желании можно увидеть оценочность. И при всем при этом – «Годные были года». Но «годные» они были словно вопреки страшному событию из внешнего мира; «годные» для субъекта, которому удается применительно к историческому событию эксплицировать свое место в мире, место, позволяющее уйти в себя от реальности: «Я выхаживал свой заповедник». И вслед за этим – словно в противовес историческим реалиям – возникает мотив яблок:
Я выхаживал свой заповедник В саду с золотыми яблоками Яблоки мне навсегда
То есть милая девочка Танки были намедни
Как становится ясно из текста далее, яблоки эти – вполне конкретная мифологема: золотые яблоки из сада Гесперид (что, впрочем, не отменяет подключения к смыслу стихотворения «Век» и других значений яблока – и яблоко раздора, и яблоко из райского сада, и сказочные молодильные яблоки…):
Социализм с человечьим лицом Мне остаётся яблоком
Что стерегут Геспериды
Опять, как видим, яблоко (теперь вполне конкретное яблоко из сада Гесперид) возникает в связи с исторической конкретикой, на этот раз – с социализмом. И в таком конкретном значении яблоко, разумеется, связано со временем, ведь, согласно греческой мифологии, яблоки из сада Гесперид возвращали молодость. Однако не забываем и о том, что Геракл, добывший эти яблоки для царя Еврисфея, в итоге отдал их Афине, а та вернула яблоки Гесперидам, ведь «мудрость дороже молодости». Как в таком случае прочитывать яблоко в стихотворении Ширали? Прежде всего, важно то, что яблоки противопоставлены конкретно-историческим танкам: «Яблоки мне навсегда <…> // Танки были намедни». Противопоставление на уровне лексики очевидно, а главное – семантически решено в ракурсе времени: «навсегда» и «были намедни», то есть яблоки являют собой вечную ценность, тогда как танки – нечто уже случившееся в прошлом и вместе с прошлым ушедшее, следовательно, к вечности отношения не имеющее. Сегмент же текста про социализм с человечьим лицом (заметим, привычный фразеологизм тут искажен в сторону снижения: не с человеческим , а именно с человечьим ) несколько меняет явленное до этого в тексте значение яблок, поскольку тут яблоко оказывается частью сравнения, организованного при помощи творительного падежа: социализм (а тут социализм именно временнáя категория, поскольку означает конкретную эпоху, в которую прошла часть жизни субъекта, прежде всего – его молодость) сравнивается с яблоком. Причем само это сравнение оказывается решено во временнóм плане: не просто социализм как яблоко , а социализм мне остаётся яблоком. Буквально можно прочитать так: социализм исторически ушел в прошлое, но мне остался как время моей молодости – той части жизни, которую яблоко из сада Гесперид и должно вернуть. Вот только, как известно из мифа, далеко не всякому дано овладеть таким яблоком, а тот, кому это было дано, решил, напомним, что «мудрость важнее молодости», в результате чего чудесное свойство яблок так и осталось неиспользованным; буквально – век не был продлен. (Заметим в скобках, что «Век» не единственный текст Ширали, где есть яблоко; можно вспомнить в этой связи, например, стихотворение «Ты пахнешь мной, как яблоками сад…» 1976 г. [см.: Ширали 2018, 139]).
Особым наполнением в стихотворении Ширали обладает и такая категория, как жизнь, а жизнь, напомним, входит в то значение слова «век», которое и актуализировано в рассматриваемом тексте. Слово «жизнь» у Ширали появляется в сегменте, через «то есть» разъясняющем эксплицированному адресату (девочке) соотнесение исторической реалии о танках в Праге и констатируемого субъектом ухода от реальности:
То есть милая девочка Танки были намедни
То есть парадокс истории заключается в том Что жизнь настолько длинна
Что включает эпоху И не одну
Как видим, констатируемая длина жизни здесь формирует систему с еще двумя категориями из области времени – это история и эпоха . И система эта с точки зрения субъекта оказывается иерархичной: история, согласно тексту, управляет жизнью, формируя тот самый парадокс, согласно которому жизнь и «включает эпоху // И не одну». При этом в паре «жизнь – эпоха» в данном контексте можно увидеть два разных значения: во-первых, жизнь включает эпохи в значении вносит в состав , во-вторых, жизнь включает эпохи в значении приводит в действие ; вполне допустимо и одновременное участие обоих значений. Важно здесь учитывать и то, что этот сегмент обращен непосредственно к эксплицированному адресату – к девочке; в этой связи реплика субъекта, прочитанная как элемент его разговора с адресатом, может быть понята как обращение века минувшего к нынешнему и даже грядущему векам (укажем тут, что похожим образом организовано, например, стихотворение Ширали «Не называй любимых имена…» 1971 г. [см.: Ширали 2018, 78]). И вся система «история – жизнь – эпоха (эпохи)» проецируется на заглавие стихотворения – на слово «век». Получается, что век и есть та самая длинная жизнь, подчиняющаяся истории и включающая (в обоих значениях) эпоху (эпохи). То есть век в стихотворении – категория обобщающая, способная объединить в себе и время, и представление о времени. Все это констатируется в настоящем, но осмысливается при этом как факты прошлого; субъект словно подводит итог. И в нем, в этом итоге находится место и оценке со стороны субъекта. Эта оценка носит привычный для человека вообще характер идеализации того прошлого, что приходилось на молодость:
Я был счастлив
Даже когда стране было плохо Это молодость
Так уж человек устроен, что признавать собственное счастливое состояние он готов либо в воспоминаниях о прошлом, либо в мечтах о будущем; в настоящем же, в данную минуту, здесь и сейчас человек редко когда осознает собственное счастье. Вот и здесь актуализировано прошедшее время, то прошлое, в которое субъект «был счастлив». Важно и то, что это прошлое состояние субъекта соотносится с историческим состоянием окружающего мира (в данном случае мир сведен до страны); и соотнесение это основывается на категории счастья и на констатации контраста состояния мира (страны) и состояния личности.
Между тем далее по тексту, буквально в финале стихотворения, в продолжение соотнесения субъекта и мира высказывается мысль обратного свойства (и кстати, происходит это не без участия яблока из сада Гесперид):
Впрочем любые режимы
Поэту плохи
Он при всех ни при чём
То есть ему нипочём
Пока пишется
А со смертью
Другие откроются виды.
Разумеется, нельзя не обратить внимание на то, что прежний субъект здесь уже не является субъектом как таковым, ибо представлен он оказывается в третьем лице; то есть прежний субъект буквально становится объектом – поэтом. Тем самым из персоналии, из личности он превращается в статус – в поэта как такового, в поэта вообще: любые режимы плохи не только субъекту, которого читатель неизбежно склонен воспринимать как поэта, но всякому поэту во всякие времена. То есть текст в финале полностью уходит от временнóй конкретики в сторону универсалии, и здесь перед нами уже самая настоящая эстетическая декларация, согласно которой поэт (любой поэт в любое время) не только признает то, что любой режим плох, но и констатирует позицию, согласно которой он, поэт, не за и не против, он в стороне: «Он при всех ни при чём // То есть ему нипочём // Пока пишется». Таким образом, перед нами не столько негативное отношение к режиму, не столько контркультура, сколько субкультура. Такая позиция во все времена позволяет творцу быть «ни при чём»; и тогда ему кажется, что ему, и правда, все «нипочём». Творчество возводится в абсолют, становясь синонимом жизни вообще, а в итоге и синонимом века; века поэта.
Финальные же два стиха, вводимые союзом «а», то есть одновременно и противопоставленные тому, что сказано выше, и продолжающие сказанное; они эти два стиха, подводят всему итог через подключение категории, привычно антагонистичной жизни и всем ее составляющим – это смерть :
А со смертью
Другие откроются виды.
Только в этой коде смерть не окончание, а процесс, благодаря которому произойдут какие-то перемены. Какие? Никто знать не может; никто из пока что живущих. Смерть относительно текста (и относительно жизни) лежит в грядущем, заглянуть в которое из этого мира нет возможности, но в проекции финала на заглавие всего стихотворения можно смело сказать, что в авторском понимании век не имеет конца, ибо смерть – отнюдь не итог века, а лишь переход к открытию других видов.
Каким же образом обобщить реализованное в стихотворении Шира-ли «Век» представление о времени? Можно сказать, что весь текст являет собой лирическое развертывание временнóй категории, вынесенной в заглавие – категории «век» в значении «жизнь». И именно то, что это лирика, позволило автору создать текст о времени (как категории бытия) через время как категорию текста; время тут одновременно и объект, и способ преподнесения и осмысления объекта лирическими средствами – через субъекта, который ощущая и показывая себя в настоящем, тем не менее с легкостью анализирует прошлое, преподнося его в актуальной для себя нынешнего временнóй перспективе, оценивая свой век и век поэта вообще, поэта как такового, и заглядывая в грядущее – в такое грядущее, где жизни-веку не будет конца, ведь «со смертью // Другие откроются виды».
Рассмотренное стихотворение в очередной раз убеждает в многомерности изображения времени в лирике, в большом временнóм потенциале данного литературного рода в силу широких возможностей реализации в нем авторских представлений о времени и обилия способов этой реализации, ведь «если мы зададим себе вопрос о том, что выражают произведения искусства, в которых автор заостряет внимание на проявлении темпоральных особенностей, то ответ будет очевиден: сохранение памяти о минувшем, полноту ощущения реальности и веру в будущее» [Лихушина 2009, 57]. С полным правом данная мысль проецируется и на рассмотренное стихотворение Виктора Ширали, где категория «век», вынесенная в заглавие, не просто стала ведущей «темой» всего текста, но выступила своего рода общим знаменателем для всех временных категорий, имеющихся в стихотворении, а в итоге поспособствовала реализации авторских представлений о мире (как о прекрасном веке, не имеющем конца) и о месте поэта в нем.
Список литературы Изображенное время в стихотворении «Век» Виктора Ширали
- Беневич Г. Виктор Ширали в контексте петербургской поэзии 1960-1970-х годов // Новое литературное обозрение. 2016. № 138(2). С. 273-293.
- Беневич Г. Предисловие // Ширали Виктор. Простейшие слова. СПб.; М.: РИПОЛ классик; Пальмира, 2018. С. 5-10.
- Беневич Г.В. Ширали. Портрет поэта на фоне смерти // Нева. 2004. № 10. С. 199-206.
- Есин А.Б. Время и пространство // Чернец Л.В., Хализев В.Е., Бройтман С.Н. и др. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. М.: Высшая школа; Академия, 1999. С. 32-41.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Лихушина М.В. Художественное время и его особенности // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук. Общественные науки. 2009. Спецвыпуск. С. 56-60.
- Семенов А.Н. Художественное пространство и художественное время // Филологический вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2020. № 1. С. 102-120.
- Тамарченко Н.Д. Хронотоп // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; 1п1га<1а, 2008. С. 287-288.
- Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. 512 с.
- Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. URL: https://slovardalja.net/ (дата обращения: 02.04.2023).
- Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 02.04.2023).
- Толковый словарь Ушакова. URL: https://ushakovdictionary.ru/ (дата обращения: 02.04.2023).
- ШиралиВиктор. Простейшие слова. СПб.; М.: РИПОЛ классик; Пальмира, 2018. 287 с.