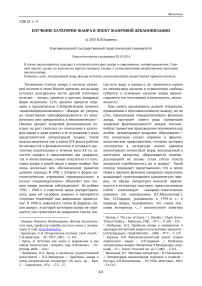Изучение категории жанра в эпоху жанровой деканонизации
Бесплатный доступ
В статье анализируются подходы к изучению категории жанра в современном литературоведении. Главный акцент сделан на выяснении причин интереса ученых к коммуникативно-рецептивному принципу анализа жанра.
Литературный жанр, фигура читателя, коммуникативно-рецептивный принцип анализа
Короткий адрес: https://sciup.org/148102083
IDR: 148102083 | УДК: 82-1/-9
Текст научной статьи Изучение категории жанра в эпоху жанровой деканонизации
гда есть жанр и жанры»), но признается одним из механизмов насилия и ограничения свободы субъекта, а основным законом жанра провозглашается его постоянная изменчивость, неуло-вимость 4 .
Еще одним проявлением данной тенденции, приводящим к противоположному выводу, но по сути, отрицающим «генерализующую» функцию жанра, выступает своего рода «концепция жанровой феноменальности: каждое сколько-нибудь приметное произведение понимается как особое, неповторимое жанровое образование»5. Эта концепция уходит корнями в феноменологические представления, согласно которым «господство в литературе нового времени неповторимо-личностной меры, воплощенной в категории авторства, оборачивается индивидуализацией не только стиля (этого оплота авторской самобытности), но и жанра»6. Такой подход порождает представление, что в эпоху Нового времени феномен жанрового мышления, вызванный существованием канонических жанров, из сферы литературы высокой перемещается в литературу массовую, представляющую собой конгломерат «жанрово-тематических канонов» (по определению Н.Г.Мельникова7). Так, Ц.Тодоров, размышляя в 1970-м г. о природе жанра, подчеркивал, что «лишь массовая литература <…> соответствует понятию жанра, но это понятие неприменимо к собственно литературным текстам», каждый из которых представляет собой «первый и единственный его /жанра. – Н.К./ образец»8, а спустя год уточнял: «как правило, литературный шедевр не относится ни к какому жанру, кроме, возможно, своего собственного»9. В отечественном литературоведении этот подход разрабатывается С.Н.Зенкиным, полагающим, что именно массовая культура «взяла на себя поддержание жанрового сознания в литературе, тогда как “высокая” литература последовательно размывала это сознание, ломая традиционные жанры и смешивая их в неопределенном единстве “романа”»10.
Безусловно, обращение к конкретным текстам элитарной литературы эпохи Нового времени подтверждает существование таких «индивидуальных» жанров. Например, Н.Л.Лейдерман отмечает, что «феномен “неповторимо индивидуальной” жанровой конструкции имеет место в искусстве авангарда» 11 . Однако существенно другое – жанровое мышление («жанровое сознание» в терминологии Зенкина) из элитарной литературы Нового времени никуда не уходит, но «кардинально меняется сама природа жанрового мышления. <…> Условно данный процесс можно было бы обозначить формулой “от канона к феномену”» 12 .
Эти изменения, отражающие характерный для эпохи модерна кризис жанровых форм мышления, тесно связаны с осознанием нелинейного характера научного познания, с появлением теории «смены парадигм» Т.Куна, в которой подвергается осмыслению конфликт разных картин мира, разных систем ценностей, разных способов измерения и наблюдения явлений. Именно поэтому признание жанра в качестве «исторически складывающегося типа структуры произведения, организующего все его компоненты в систему, порождающую целостный образ мира, который единственно может быть носителем определенной эстетической концепции действи- тельности и выражением художественной исти-ны»13 позволяет адекватно осмысливать крайне усложнившиеся представления о действительности с ее многочисленными вариантами «образа мира».
В противоположность релятивистским концепциям жанра достаточно влиятельной в современной жанрологии была и остается тенденция рассматривать категорию жанра в качестве основополагающей для построения всей литературной теории. Здесь одним из центральных вопросов становится вопрос о сущности данной категории и роли жанров как классификационных единиц. Разрешению этого вопроса способствует опора на жанровую теорию М.М.Бахтина, синтезирующую центральные традиции европейской поэтики в изучении жанра: концепции жанра в неразрывной связи с жизненной ситуацией, в которой он функционирует; жанра как «образа» мира, запечатлевшего определенное миросозерцание; жанра как границы между эстетической реальностью и внеэстетической действительностью. Подчеркивая, что произведение может существовать «лишь в форме определенного жанра», что «конструктивное значение каждого элемента может быть понято лишь в связи с жанром», русский ученый предложил концепцию жанра как «трехмерного конструктивного целого» 14 .
Следствием взаимодействия и противоборства двух названных тенденций стало необычайное многообразие в подходах к исследованию жанра в западных теориях 2-й половины ХХ века. Среди наиболее продуктивных можно назвать идею Ф.Джеймисона об идеологической обусловленности жанра как литературного института или социального контракта между писателем и специфической аудиторией в виде «социально-символического сообщения»15; герменевтический подход к жанру в трудах Э.Хирша, отмечавшего, что отнесение высказывания к тому или иному жанру является первым и необходимым этапом для понимания его смысла16; проблему жанрового наименования в книге Ж.-М.Шеффера «Что такое литературный жанр?», где жанровое наименование рассматривается как материальное воплощение жанровой конвенции или «жанрового начала»17; представление о жанре как средстве существования литературы и ее интерпретации в работе А.Фаулер18 и сходное понимание жанра как интерпретационного инструмента, которым пользуется литературовед в своей теории и практике у А.Розмарин19.
Существенной особенностью современной жанрологии можно считать переход от традиционно классификационного к коммуникативнорецептивному принципу анализа жанра, когда на первый план выдвигаются рецептивные функции жанра, а в определении доминирует характер отношений между автором и читателем. Все это позволяет, по мнению Дж. Каллера, рассматривать жанр как «наиболее устойчивую литературную модель <…> конвенции которой позволяют заключать что-то наподобие контракта между текстом и читателем» 20 .
Активизация рецептивной стороны жанровой структуры связана с характерным для литературной теории 2-й половины ХХ в. в целом и таких ее направлений, как герменевтика, рецептивная эстетика, феноменологическая критика, деконструктивизм, критика читательского отклика в частности, переносом внимания к фигуре реципиента и проблеме «исполнения» (В.Изер) и метафору «ответа на вопрос» (С.Фиш). По мнению В.Изера, произведение литературы должно восприниматься не как некий завершенный объект, а как своего рода «программа для исполнения», позволяющая читателю в процессе интерпретативной деятельности создать полноценный эстетический объект21. С.Фиш акцентирует внимание на том, что произведение задает своему читателю ряд вопросов, совершая некое действие по отношению к читателю – вызывая определенную аффективную реакцию, которая и делает возможной адекватную интерпретацию, или «ответ» на «вопросы» текста, обогащает читателя особым «опытом чтения»22.
В связи с этим такую роль играет анализ жанровых аспектов, активизирующих роль читателя в интерпретации текста. Представители различных направлений современного литературоведения обращаются к исследованию тех составляющих жанра, которые позволяют выделить и проанализировать эти аспекты. Так, в структурализме рассматривается заложенная в жанре «программа декодирования», дающая возможность свершится акту коммуникации между писателем и читателем. В таком контексте установка современной литературной теории на активность и творческую свободу читателя, в том числе и в выборе адекватной жанровой стратегии, представляется очень перспективной для осуществления плодотворной интерпретации.
В уже упоминавшемся исследовании Э.Хирша «Достоверность интерпретации» доказывается, что жанровое восприятие или «концепция жанра» создает ожидания, позволяющие читателю «делать предположения относительно смысла текста» и эти «предположения» становятся основой самого процесса дальнейшей адекватной интерпретации текста 23 .
Теоретики рецептивной критики, указывая на возможность стимулировать воображение реципиента с помощью многообразных текстуальных стратегий, уже известных читателю, в том числе «художественных стандартов» «легкого чте-ния»24, говорят о процессе разрушения читательских ожиданий, позволяющем обновлять художественную форму произведения. Для понимания этих процессов представителями рецептивно-коммуникативного подхода была разработана новая концепция читателя и предложен ряд понятий: репертуар, горизонт ожидания и т.п. Так, по мысли В.Изера, исходный репертуар читателя как комплекс социальных, исторических, культурных норм, задает саму возможность интерпретации текста благодаря моменту узнавания, который «превращает линейно-темпоральный ход чтения в постижение объединяю- щей формы и единовременного значения»25, позволяет осуществить переход от интриги повествования к осознанию смысла произведения в целом. Для более или менее эффективного процесса чтения необходимо хотя бы минимальное пересечение между репертуаром читателя и ре-пертуаромтекста.
Другой подход - подход Х.Р.Яусса, в котором акцент сделан на коллективном процессе чтения - нашел отражение в концепции горизонта ожидания, складывающегося «в момент появления произведения из предыдущего понимания жанра, из форм и тематики уже известных произведений, из контраста между поэтическим и повседневным языком»26. Именно горизонт ожидания, по мнению Яусса, позволяет вести речь о трансформациях жанра под влиянием видоизменения «правил, знакомых по более ранним текстам, которые варьируются, корректируются, изменяются или просто воспроизводятся. Степень вариации и коррекции определяет масштаб, изменение или воспроизведение границ жанра и его структуры»27.
Таким образом, современные теории жанра вырабатывают связанные с учетом роли воспринимающего сознания эффективные стратегии осмысления и анализа произведений самой различной художественной природы.
THE GENRE STUDY IN THE PERIOD OF GENRE DECANONIZATION
Blagoveshchensk State Pedagogical University
Список литературы Изучение категории жанра в эпоху жанровой деканонизации
- Бройтман, С.Н. Историческая поэтика: учеб. пособ./С.Н.Бройтман. -М.: РГГУ, 2001. -С. 357.
- Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика/Б.Кроче; пер. В.Яковенко. -М.: Intrada, 2000. -160 c.
- Лейдерман, Н.Л. Жанр и проблема художественной целостности/Н.Л.Лейдерман//Проблемы жанра в англо-американской литературе: Сб. науч. тр. -Вып. 2. -Свердловск, 1976. -C.3 -27.
- Derrida, J. The Law of Genre/J. Derrida//Glyph Seven: Textual Studies. -Baltimore, 1980. -№ 7. -Р. 202 -229.
- Лейдерман, Н.Л. Проблема жанра в модернизме и авангарде (Испытание жанра или испытание жанром?)/Н.Л.Лейдерман//Studi Slavistici. -2008. -№ V. -С.159.
- Зырянов, О.В. Феноменологический аспект теории лирического жанра/О.В.Зырянов//Проблемы литературных жанров: Материалы Х Международ. науч. конф. -Ч. 1. Томск: Томский гос. ун-т, 2002. -С.355.
- Мельников, Н.Г. Массовая литература/Н.Г.Мельников//Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А.Н.Николюкина. -М.: НПК «Интелвак», 2001. -Ст.516.
- Тодоров, Ц. Введение в фантастическую литературу/Ц.Тодоров; пер. с фр. -М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. -С.10.
- Todorov, T. The Poetics of Prose/T. Todorov; trans. Richard Howard. -Ithaca: Cornell Univ. Press, 1977. -Р.43.
- Зенкин, С. Эффект фантастики в кино/С.Н.Зенкин//Фантастическое кино. Эпизод первый: Сб. статей. -М.: Новое литературное обозрение, 2006. -С.54.
- Медведев, П.Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику/П.Н.Медведев//Бахтин М. М. Тетралогия. -М.: Лабиринт, 1998. -С. 248 -249.
- Jameson, F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act/F. Jameson. -Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1981. -305 р.
- Hirsch, E. Validity in Interpretation/E. Hirsch. -New Haven; London, 1971. -Р.17.
- Шеффер, Ж.-М. Что такое литературный жанр?/Ж.-М. Шеффер; пер. и послесл. С.Н.Зенкина. -М.: Едиториал УРСС, 2010. -192 c.
- Fowler, A. Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes/A.Fowler. -Oxford: Oxf. Univ. Press, 1982. -Р. 23.
- Rosmarin, A. The Power of Genre/A.Rosmarin. -London; New York, 1986. -Р. 167.
- Culler, J. D. Structuralist poetics. Structuralism, linguistics and the study of literature/J.D.Culler. -L.: Routledge and Kegan Paul, 1975. -Р.147.
- Iser, W. The Reading Process: A Phenomenological Approach/W. Iser//Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism/Ed. by Jane P. Tompkins. -Baltimore and London: The Johns Hopkins Univ. Press, 1980. -P. 50 -69.
- Fish, S. Literature in the Reader: Affective Stylistics/S. Fish//Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism/Ed. by Jane P.Tompkins. -Baltimore and London: The Johns Hopkins Univ. Press, 1980. -P. 70 -100.
- Hirsch, E. Validity in Interpretation/E. Hirsch. -New Haven; London, 1971. -Р. 77.
- Яусс, Х.Р. История литературы как вызов теории литературы/Х.Р.Яусс//Современная литературная теория. Антология. -М.: Флинта, Наука, 2004. -С.195.
- Компаньон, А. Демон теории: Литература и здравый смысл/А.Компаньон; пер. С.Зенкина. -М.: Изд-во Сабашниковых, 2001. -С.150