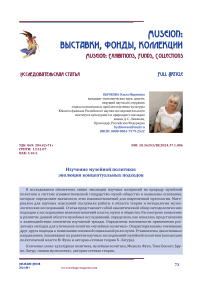Изучение музейной политики: эволюция концептуальных подходов
Автор: Бычкова О.И.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции
Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.
Бесплатный доступ
В исследовании обозначена линия эволюции научных воззрений на природу музейной политики в системе взаимоотношений государство-музей-общество и выявлены основания, которые определяют значимость этих взаимоотношений для современной музеологии. Материалом для научных изысканий послужили работы в области теории и методологии музеологических исследований. Статья представляет собой аналитический обзор методологических подходов к исследованию взаимоотношений власти, музея и общества. Рассмотрено появление и развитие данной области музейных исследований, определено, как менялись представления о взаимодействии элементов изучаемой триады. Определены возможности применения различных методов для уточнения понятия «музейная политика». Охарактеризованы сменявшие друг друга подходы к пониманию основной социальной роли музея. Установлены два основных направления, повлиявшие на развитие научных исследований музейной политики (концепция политической власти М. Фуко и акторно-сетевая теория Б. Латура).
Культурная политика, музейная политика, мишель фуко, тони беннет, бруно латур, «новая музеология», акторно-сетевая теория
Короткий адрес: https://sciup.org/170206250
IDR: 170206250 | УДК: 069: | DOI: 10.36343/SB.2024.37.1.006
Текст научной статьи Изучение музейной политики: эволюция концептуальных подходов
Изменения последних десятилетий, произошедшие в отраслях культуры и государственного управления, во многом явились результатом научно-технического прогресса, развития средств коммуникации и совершенствования компьютерных систем. Сетевые и цифровые технологии стремительно трансформируют бытовую и профессиональную сферы деятельности, моральную сторону жизни общества и повседневные социокультурные практики. Они закономерно актуализируют новые возможности взаимодействия власти и общества, вместе с тем обозначая вызовы, возникающие как результат опережающего развития высоких технологий по отношению к темпам общественного прогресса. Важным ориентиром для сферы управления культурой становится и стремление развитых государств обеспечить широкий доступ своих граждан к различным культурным благам, создать условия для самореализации каждого человека и улучшения качества жизни.
Трансформация музейной сферы в условиях глобализации, мирового экономического и гуманистического кризиса определяет вектор развития современного музея. Музей, являясь транслятором культуры и хранилищем исторической памяти, адаптирует характер хранения экспонатов и коллекций и особенности их публичного показа к изменяющейся социокультурной среде. Современные тенденции, характерные для сферы культуры и актуальные применительно к музейной отрасли, оказывают влияние не только на их трансформацию, но и в целом преобразуют взаимодействие музея и государства, качественно повышая его уровень до концептуально выстроенной системы — музейной политики.
Изучение практических аспектов этой политики, разработка ее принципов, моделей и конкретных механизмов реализации представляется актуальным и значимым направлением современной науки о музеях.
Развитие концепций музейной политики связано с эволюцией самого музея как культурной формы и институции, а также с совершенствованием культурной политики, частью которой является система взаимоотношений между музейными учреждениями и органами публичной власти.
Культурную политику принято рассматривать как деятельность государства, регулирующую культурную жизнь общества с целью формирования у человека необходимой картины мира. По мнению Л. Е. Вострякова, для определения понятия культурной политики используют целевой, институциональный, ресурсный и комплексный управленческий подходы [2, с. 9]. Все они рассматривают культурную политику в парадигме управленческих категорий, слабо затрагивая ее культурологическую составляющую. Однако, по выражению С. Н. Иконниковой, «культурология помогает систематизировать исторические и гуманитарные знания, понять явления общественной жизни в едином смысловом контексте^» [6, с. 10], поэтому изучение эволюции концептуальных подходов к музейной политике как составной части культурной политики как минимум способствует развитию новых исследовательских методологий, которые могут послужить основой научных изысканий в области культурологии, музеологии и социологии культуры.
До настоящего времени тема взаимодействия элементов системы государство– музей–общество применительно к музейной политике не рассматривалась, хотя изучалась отдельно в контексте отношений власти и музея и в рамках отношений музея и общества.
В зарубежной научной литературе, посвященной анализу музея как культурного феномена, весьма заметно влияние идей М. Фуко [17]. Концептуальный аппарат его исследований, включающий понятия правительно-сти, эпистемы, паноптикума, гетеротопии, явился важнейшим элементом методологии Т. Беннета [18], в работах которого музей понимается преимущественно как своеобразная площадка, реализующая контакт власти и посетителей. Музей как транслятор ценностей властных элит рассматривали К. Дункан [23] и Э.МакКлеллан [26]. Культурные учреждения как инструмент воспроизводства неравенства, социальных различий и вкусов анализировали в своих работах П. Бурдьё, А.Дар-бель и Д. Шнаппер [19]. Критику музеев как инструмента репрезентации других культур и обществ осуществляли Д. Клиффорд [21], С. МакДональд [27]. Проявление различных отношений, связанных с властью, в политике репрезентации, правилах поведения, системе надзора и контроля описали в своих работах Б. Гилман и Г. Спивак [11]. На основе акторносетевого подхода Б. Латура [9] А. Янева [31] представила музей как процесс управленческих переговоров и изменений.
В отечественной литературе музеи в контексте культурной политики рассматриваются в работах Л. Е. Вострякова [2] и В. Ю. Дукель-ского [4]. Идея трансформации взаимоотношений государства, музея и аудитории в различных политических, социальных и культурных реалиях отражена в исследованиях Б. В. Дубина [3], М. С. Кагана [7], И. А. Куклиновой [8], А. Г. Лещенко [11], А. С. Максимовой [12], Е. В. Морозовой [13]. Однако непосредственно проблеме властных отношений в музейной политике отечественная музеология на данный момент не уделяет достаточного внимания.
Анализ российской и зарубежной литературы позволил выявить противоречия между наблюдаемой в настоящее время актуализацией понятия «музейная политика» и отсутствием корректного определения его сущностного смысла, а также недостаточной теоретической проработанностью вопроса концептуализации музейной политики через отношения в системе государство–музей–об-щество. Указанные противоречия определили проблематику и цель статьи, состоящую в том, чтобы наметить линию эволюции научных воззрений на сущность музейной политики в системе взаимоотношений между государством, музеем и обществом, а также выявить основания, определяющие значимость проблемы этих взаимоотношений для современной науки о музеях. Предметом исследования в таком случае оказываются процессы и отношения, складывающиеся при взаимодействии государства и общества с музеем в пространстве культурной политики.
Определений музейной политики в отечественной культурологической мысли немного, при этом они не закреплены в строгих терминах. Так, авторы работ, опубликованных в сборнике «Музей и власть», вышедшем в начале 1990-х гг., рассматривали музейную политику лишь как политику государства в сфере музейного дела [14]. Их поддерживает
А. И. Фролов, трактующий указанное понятие как «государственную политику по отношению к музеям» [16, с. 33].
С начала XXI в. в научной литературе под музейной политикой начинают понимать «совокупность принципов и методов управления музеем, нацеленных на осуществление миссии музея и обеспечение выполнения им социальных функций…» [15, с. 67]. В. Ю. Дукельский, называя музейную политику «политикой музея», определяет данный термин через региональную культурную политику, которая реализуется непосредственно музейными учреждениями на местах [4, с. 20]. Исследователь музейной политики Е. В. Морозова рассматривает ее как «целенаправленную деятельность музея по реализации его миссии и социальных функций, осуществляемую с учетом современного социокультурного и политического контекста и государственной политики в области культуры» [13, с. 99].
Но на наш взгляд, сущностное понимание музейной политики возможно лишь в том случае, если ее анализ выходит за рамки рассмотрения деятельности внутренних управленческих структур музея и учитывает состояние культуры и общества в целом, имея не только управленческое, но и культурологическое измерение. Поэтому авторское определение музейной политики обозначает ее как деятельность субъектов и акторов культурной политики по осуществлению взаимоотношений в системе государство–музей–общество путем регулирования, репрезентации, верификации и экстраполяции социокультурных практик.
Мы не будем более подробно останавливаться на экспликации понятийного аппарата музейной политики, так как данный аспект является предметом дальнейшего отдельного исследования, только обозначим, что существует определенное противоречие между пониманием музейной политики учеными-культурологами и практиками, решающими управленческие задачи, связанные с музейной сферой.
Социокультурная значимость темы исследования обусловлена необходимостью анализа властных взаимоотношений государства и музея в современных культурных реалиях с учетом эволюционных аспектов. Материалы исследования представлены теоретическими и историческими работами, характеризующими различные аспекты взаимодействия власти, музея и общества. Основным методологическим инструментом явился герменевтический подход, позволивший отразить существенные положения философско-культурологических и музеологических концепций и приложить их к объекту исследования, вспомогательную роль при этом играл историко-философский подход, благодаря которому была последовательно проанализирована эволюция рассматриваемых идей, их развитие и постепенная трансформация.
Исследование, таким образом, представляет собой аналитический обзор методологических подходов к анализу взаимоотношений власти и музея, закономерно складывающихся и развивающихся в определенном социокультурном контексте. В качестве отправного пункта научных изысканий будут рассмотрены элитаристская и социетальная модели музейной политики и показана важность разработки комплексного подхода к ее изучению. Далее мы затронем концепцию «дисциплинирующего музея» Тони Беннета и проследим ее связь с фуколтианскими идеями, при этом особое внимание следует уделить «музейному порядку», ставшему основой для понимания музея в качестве воспитывающего и цивилизующего института. Вслед за этим будут рассмотрены концепции, связанные с репрезентацией музеем других (в частности, неевропейских) обществ и культур, а также охарактеризованы сменявшие друг друга подходы к пониманию основной социальной роли музея (музей как центр репрезентации, «музей-архив», «музей-высказывание»). Следует также уделить внимание идеям посткритической музеологии, предполагающим расширение сферы деятельности музея за пределы его физической территории. Определению результатов исследования будет предшествовать анализ концепции ритманализа А. Лефевра и акторносетевой теории Б. Латура применительно к системе взаимоотношений музея с государством и обществом.
Выяснение особенностей эволюции идей, связанных с научным осмыслением от- ношений музея с властными структурами и обществом, будет способствовать расширению объема знаний, характеризующих развитие европейской методологической мысли во второй половине XX — начале XXI вв., что поможет преодолеть некоторые мировоззренческие ограничения, в целом присущие данной традиции.
* * *
Рассматривая развитие понятийного аспекта музейной политики, можно говорить о двух основных методологиях ее изучения. Это конкурирующие методологии, каждая из которых, с одной стороны, является порождением определенных социальных отношений, а с другой — устанавливает направление развития отдельных элементов соответствующей социальной системы.
Элитаристская методология является «исторически первой» и связана с эволюцией профессионального музейного сообщества в системе отношений власть-музей. Деятельность элит в музейном деле являлась едва ли не самой важной вплоть до рубежа XX–XXI вв.
Социетальная методология, которую можно считать «исторически новой», основана на использовании системы «участвующего управления» при формировании и реализации музейной политики, то есть признания общественности субъектом музейной политики.
В рамках указанных методологий по-лифоничность исследовательских подходов и неоднозначность музея как культурного феномена одновременно и приковывает внимание ученых, и составляет серьезную проблему. Научное исследование музейной сферы осуществляется в рамках самостоятельной мультидисциплинарной области, существующей на стыке культурологии, истории, философии, социологии, антропологии. Представляется, что одним из основных направлений развития этой области является проблематика, связанная с изучением власти в контексте ее отношения к музеям. Работы теоретикометодологического характера, посвященные данному вопросу, в значительной степени влияют на исследовательский запрос и выбор концептуальных средств для представления музейной политики.
Процесс интеграции социальных, культурологических и практических составляющих теории, методики и организации музейной политики требует применения комплексных методологий. С авторской точки зрения, таким комплексным методом в изучении отношений музея с властными структурами и обществом может стать междисциплинарный подход, сочетающий системный метод, представляющий музейную политику в качестве одного из уровней культурной политики (концепция культуры как саморазвивающейся системы М. С. Кагана) [7], управленческий — в рамках «формальной рациональности» и «бюрократии» М. Вебера, обозначивший культурную и соответственно музейную политику как составляющую государственного управления XX в. [ссылка], и акторно-сетевая теория Б. Латура, выдвигающая на первый план музейной политики фигуру актора, анализ его деятельности и связанных с ней социокультурных практик [9].
Современные музейные концепции развиваются в основном на базе эстетической и институциональной составляющих, а также теории коммуникации, применяемой с учетом процессов цифровизации, что еще более повышает сложность их научного осмысления. Именно в силу комплексности анализируемой проблематики применение системного подхода как основы исследования музейной политики, позволяющей рассмотреть отношения государство-музей-общество в качестве открытой системы, дает возможность раскрыть недостаточно разработанные аспекты теории музеологии.
Музеи являются отражением общественных структур и иерархий, одновременно конструируя собственные отношения с государством и обществом. В этом ключе обратимся к классическому масштабному исследованию музея Т. Беннета, одним из первых задавшего вопрос об отношениях государства и музея. Рассматривая публичные музеи в рамках особой культурной формы, Т. Беннет через анализ исторических документов и визуальных материалов определяет основные музейные функции и культурные, социальные, политические условия, сформировавшие их. В своей наиболее известной работе «Рождение музея:
история, теория, политика» [18] он основывается на идеях М. Фуко (работе «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» [17]), пользуясь такими уже упомянутыми концептами, как правительность, эпистема, паноптикум, гетеротопия.
Правительностью Т. Беннет, как и М. Фуко, называет действие распределенной власти без конкретного субъекта. По его рассуждениям, сначала музеи обслуживают власть, которая имеет централизованные источники и производит культурные и «увеселительные» мероприятия для того, чтобы продемонстрировать свое могущество. Но с развитием музея появляется функция воздействия на людей для их изменения. В этот момент появляется необходимость открыть двери музейного пространства для его взаимодействия с публикой, преобразовав элитарные собрания уникальных артефактов (диковинок) в образовательные, обучающие инструменты. Одновременно решается задача «развивать музей как пространство наблюдения и регулирования, чтобы тело посетителя могло быть захвачено и заново сформировано в соответствии с требованиями новых норм публичного поведения» [18, р. 24] (перевод А. Сериковой).
Музейный порядок становится двойственным, «одновременно упорядочивая объекты для публичного обозрения и обозревающую публику» [18, р. 61] (перевод А.Серико-вой). За публикой в музее наблюдают, она выставляется как экспонат напоказ, в то время когда сама наблюдает экспонаты. Паноптикум (тюрьма по М. Фуко) делает власть невидимой, одновременно придавая реальности определенную долю прозрачности. Экспозиция выступает образом паноптикума, осуществляющего надзор и контроль, но в отличие от тюрьмы экспозиция по Т. Беннету обладает возможностью обмена взглядами и перспективами. Исследователь полагает, что в викторианской Англии в конце XIX в. музей начинает использоваться не столько для воспитания вкуса, сколько как инструмент, влияющий на поведение граждан. Задача музея не только наблюдать за публикой, но и заставлять ее воспитывать, контролировать и цивилизовы-вать саму себя. Однако посещение выставок для большинства представителей музейной аудитории является утомительным занятием, не предполагающим наличие условий для отдыха, а художественные объекты изобилуют непонятными деталями и сюжетами [18].
Публичные музеи с залами, наполненными дорогими произведениями искусства, где простые посетители испытывают собственную неуместность, способствуют расслоению аудитории и формированию неравенства [23]. П. Бурдье и соавторы в работе «Любовь к искусству» доказали, что музеи участвуют в воспроизводстве неравенства и социальных различий [19]. Подобные концептуальные выводы в дальнейшем подтолкнули исследователей взаимоотношений власти и музея к его институциональной критике.
Рассматривая музей викторианской эпохи, Т. Беннету вторит Э. МакКлеллан [26], который подчеркивает, что государство может «унять» неконтролируемые грубые массы населения, используя культуру и занимаясь их моральным воспитанием. Но доступность музея для публики не увеличивается, даже когда он освобождается от викторианского образа. По его мнению, музеи, созданные по примеру Лувра, подчас представляют неловкую смесь демократических идеалов и элитарных эстетических ценностей [26, р. 6]. Э. МакКлеллан считает, что научность и профессионализация музейного дела в первой половине XX в. поставили новые барьеры между музеем и публикой: экспозиции создаются для знатоков, воспроизводя вкусы профессионалов.
Позиции исследователей, изучающих проблематику, связанную с отношениями власти и музея, не использующих при этом концептуального аппарата М. Фуко, очень близки к пониманию музея как инструмента власти, который реализуется через архитектуру, экспозицию и различные средства визуализации. Так, по мнению К. Дункан, посещение художественного музея превращается в «цивилизующий ритуал», через который транслируются ценности власти [23].
«Рефлексивный» поворот в антропологии, произошедший в 1980-х гг., породил научную дискуссию о природе и способах установления этнографического авторитета, что привело к критическому осмыслению музеев как инструмента репрезентации других обществ и культур. Д. Клиффорд в заключительной статье сборника «Объекты и Другие. Эссе о музеях и материальной культуре» объясняет: «История коллекций является ключевой для понимания того, как социальные группы, создавшие антропологию, присваивали экзотические вещи, факты и смыслы» [22, р. 240] (перевод К. Бандуровского). Жизнь целых народов и племен не только изучается западной наукой, но и оценивается как достойная либо недостойная внимания, выставляясь для публичного обозрения. То есть этнографические выставки и экспозиции становятся средством определения различий и конструирования Другого.
Итак, музеи создаются государством с целью постижения сути транформационных социальных процессов и глубокого осознания революционных общественных изменений. Музей как публичная форма, приобретая образовательно-воспитательную функцию, становится инструментом государственной культурной политики, оказывающим влияние на общество. Для этого государству необходимо формировать музеи как пространства просвещения и производства знания в изменяющемся мире. Множественность пространств музея (гетеротопия по М. Фуко) позволяет ему переворачивать и перестраивать отношения с окружающим миром, поскольку музей мыслится как находящийся одновременно в различных временах и пространствах.
Музей постепенно становится социокультурным институтом, осуществляя политику репрезентации и реализуя различные эпистемические практики. Концептуальные дефиниции, предложенные М. Фуко, адаптируются исследователями музеев в контексте реализации эпистем (исторически сложившихся представлений об истине) и их связанности с властью, наукой, общественной иерархией, религией. В исследованиях прослеживается давление политической власти на эпистеми-ческие практики через технологии управления аудиториями музеев. Между тем музейное производство знания показывает, что научный прогресс осуществляется как движение от заблуждений к истине. Естественно меняются способы репрезентации: от эволюции уникальных «диковинок» до типизации коллекций музейных предметов эпохи модерна.
Исследуя механизмы формирования музея как института, связанного с властью, Б.Андерсон называет его инструментом колониальной политики. Исследователь поясняет, что «музеи и музейное воображение в глубине своей политичны» [1, с. 290]. Процесс му-зеизации конструирует не только географию государств, но и репрезентует природу людей и легитимность власти, наделяет колониальные объекты наследия (артефакты, места, здания) серийными номерами для «калькуляции» и управления территориями, контролируя их символы [11].
Музеи обладают особой связью с прошлым, памятью и временем. Они, как архив, представлены собраниями музейных предметов определенной цивилизации, нации, сообщества и сохраняют элементы прошлого для замедления времени, но в условиях внешних социальных и технологических изменений одержимы прогрессом и усовершенствовани-ем[30].
Изучение политики репрезентации и символорегулирования приводит научное сообщество к замене концепции традиционного «музея-архива» на концепцию «музея-высказывания» [3]. Новый музей на основе нарратива (предшествующего опыта аудитории) формирует у посетителя новые переживания и многослойность опыта. Называя музей «контактной зоной», Д. Клиффорд [21 или 22] определяет его площадкой столкновения разных культур и сообществ, при этом музей из транслятора сообщений становится местом обсуждения и оспаривания аудиторией смыслов и идентичности.
Отношения руководства–подчинения в музее сохраняются всегда, проявляясь в системе надзора и контроля, политике репрезентации, правилах поведения для посетителя. Но в последнее время давление власти на музей и, соответственно, музея на публику снижается, становится менее авторитарным. Сегодня музейная практика не только преобразует музейные нарративы, но и все чаще вовлекает аудиторию совместно с авторами экспозиций в создание смыслов, планирование и оценку экспозиций. Новые технологии, цифровиза- ция и виртуализация музеев способствуют продвижению идеи самостоятельности музейной аудитории в актуализации истории, артефактов, пространств и текстов. Мало того, заинтересованная аудитория может создавать собственные музейные пространства в виртуальной реальности Интернета.
К тому же динамичное развитие исторической музеологии привело к переосмыслению истоков современного понимания музея. Так, с точки зрения С. Шомье, музей в рамках экомузеологии (части «новой музеологии») необходимо рассматривать как институт, находящийся на службе общества (публики и даже населения), а коммуникацию — в качестве основного вопроса его функционирования [20]. Родоначальники «новой музеологии» обосновали приоритет экспозиционно-выставочной деятельности музея с ориентацией на его аудиторию.
Концепция участия, по мнению Н. Саймон, стала основополагающей в современной музейной науке и практике, создавая эксклюзивный формат взаимоотношений власти и музея, придавая новый статус актору этих отношений — аудитории музея, повышая самостоятельность музея в построении собственной политики [28].
Изучение и осмысление практики в рамках «новой музеологии» спровоцировало са-морефлексию в музейном сообществе, «когда практика становится способной вырабатывать теорию, оценивающую ее саму» (цит. по: [8, с. 71]). Так, Д.Жакоби продолжает исследование музейной терминологии: с одной стороны, музеология выступает для него осмысленной практикой профессионала, с другой — исследовательской областью [25].
По мнению Б. Соареса, главной заслугой «новой музеологии» является развитие децентрализации и политизация музейного строительства [29]. Он утверждает, что эти процессы осуществляются в «тесной связи с социальными проблемами того общества, которым создаются музеи, в участии сообществ в управлении музейными практиками и в использовании музейных учреждений как инструментов развития этих сообществ» (цит. по: [8, с. 71]).
Рассмотрение политики исторической репрезентации, классовых и гендерных про- блем, мультикультурализма стало фундаментом критической музеологии, которая в свою очередь в настоящее время подвергается критическому анализу. В частности, концепция посткритической музеологии, основанная на выводах исследовательского проекта Британской галереи Тейт, уходит от институциональной критики музея, которая являлась атрибутом критической музеологии, и формирует методическую систему изучения музейной практики с целью установления соответствия миссии музея действиям сотрудников и восприятию его посетителей. Посткритическая музеология, базирующаяся на постколониальной теории, основана в том числе на идеях Г. Спивак о том, что власть в западной культуре не заинтересована в межкультурном диалоге, маргинализируя этнические меньшинства, женщин, рабочий класс и мигрантов. Исследования в Тейт и идеи Г. Спивак связаны с концептом «непринадлежности», который означает состояние, когда человек растет в колониальной стране под влиянием западной культуры, говорит на языке этой культуры, но, приехав в страну Запада (в примере — это Франция), понимает, что к этой культуре в действительности не принадлежит. Одним из главных результатов указанных исследований стал вывод о том, что «художественный музей больше не может оставаться “монолитной институционально последовательной иерархией”, но должен стать частью более крупной сети партнерских отношений, интересов и жизни индивидов вне стен музея» (цит. по: [11, с. 9]).
В последние десятилетия в исследованиях совместной деятельности государства и музеев изучаются описательные характеристики культурного потребления, механизмов обретения идентичности в пространстве музея, способов интерпретации музейных экспозиций и поведения посетителей в процессе музейной коммуникации.
Так, культурное потребление, по мнению Ш. Зукин, показывает, что музеи, участвуя в культурных индустриях, производят образы, стили потребления, идеи [5], которые приводят к получению экономической выгоды. Таким образом, символическое потребление осуществляется в музее благодаря созданию образов и привлечению аудитории.
Современный музей уже не производит неравенства (социальных различий) в тех же объемах, что прежде, поэтому, по Г. Файфу, в нем на первый план выдвигаются вопросы конструирования множественных идентичностей [24]. Музейные аудитории формируют собственную идентичность посредством совместных действий в рамках принадлежности к публике музея.
В наши дни музей постепенно выходит из-под контроля кураторов и знатоков. Развитие туристской отрасли, распространение Интернет-технологий, появление новых СМИ, превращение взаимодействия с музейными предметами и объектами в культурное потребление делают функциональную деятельность музеев и отношения в триаде государ-ство–музей–общество более подвижными, свободными и равноправными: «характер сообщения проявляет или предопределяет здесь иной характер сообщества — открытого, игрового, ситуативного» [3, с. 108]. По мысли Г. Файфа, музей, реагируя на изменения, становится рефлексивным и создает новые формы знания [24].
Культурная география дополняет набор подходов к пространственной сущности музея, основанных на понятии гетеротопии. Разнообразие взаимоотношений музейных пространств и времени описывается в концепции ритманализа А.Лефевра [10], выделяющего разные ритмы и сети, влияющие на деятельность музея. По утверждению Н. Прайора, он становится сложным полиритмичным образованием, определяющим специфический порядок взаимодействия с окружающим миром [30].
Подобный порядок взаимодействия развивает акторно-сетевая теория Б. Латура, в рамках которой музей понимается как образование, включающее конкретные отношения, действующие силы и материальные объекты. Концепт «актор-сети», с точки зрения Б.Латура,— это инструмент для анализа взаимоотношений, раскрывающий становление сетевого общества, построенного на гибридном взаимодействии живого и неживого в природе [9]. А.Янева, исследователь, использующий данный подход, рассматривает музей как своеобразный процесс переговоров акто- ров в условиях сетевых изменений, где сеть представлена в виде разных людей, вещей, инстанций и правил [31].
Таким образом, субъектность и актор-ность являются необходимыми условиями формирования и реализации музейной политики с точки зрения акторно-сетевого подхода. Следует предположить, что с развитием сетевых взаимодействий в поле культурной политики все более значимым становится роль субъектов и акторов, где субъекты, например, государство, самостоятельны и влиятельны, а акторы, такие как музеи, маловлиятельны и автономны. Данный вывод подразумевает включение в понятийный смысл музейной политики субъектно-акторной составляющей.
* * *
Эволюция концептуальных подходов, способствующих решению проблем взаимоотношений власти, музеев и общества в рамках музейной политики во многом обозначила поле исследований для дескрипции этих взаимоотношений.
Можно выявить несколько оснований, по которым тема власти и музея приобретает значимость в современной гуманитаристике. Первое из них связано с природой самого музея, которая проявляется через разнообразные его аспекты: музейное пространство и архитектуру, формы и содержание экспозиций, отношения с аудиторией. Все эти характеристики рассматриваются в разрезе отношений музея с властными структурами и обществом.
В исследованиях Т. Беннета представлен музей, который диктует способы поведения, навязывает воспитательную и образовательную повестку публике в музее. Работы П. Бурдьё представляют характеристики музея, который не дает равного доступа разным слоям общества и социальным группам посетителей к производству вкусов. Изучаемый антропологами музей постколониальной эпохи проявляется как институт, отношения которого с властью опосредованы представленными в нем культурами. Исследование политики репрезентации в контексте властных отношений дает ответ на вопрос о том, почему до сих пор остается представление о некоей элитарности музеев в эпоху их открытости и демократичности.
Второе основание для повышенного внимания к теме отношений власти и музея связано с логикой развития предметной области. В рамках культурологии к этим взаимоотношениям сформировался интерес как к явлению культуры, функционирующему в системе культурной политики. Изучение властных отношений и неравенства проходило в контексте производства знания о культурах разных эпох. «Магистральное» направление было определено концептуальными характеристиками, разработанными М. Фуко (понятия правительности, гетеротопии, эпистемы, паноптикума). Проблематика власти проявилась в рамках изучения истории музея как дисциплинирующего института, в раскрытии концептуальных основ неравенства, которое воспроизводит музей, в анализе политики репрезентации. Исследованиями выявлено, что в общественном сознании музеи традиционно ассоциируются с властью элиты, так как кроме «иллюзии» полной достоверности предоставляемой информации они демонстрируют ценности «высокой культуры», доступной только избранным, тем самым легитимизируя их власть.
В то же время среди представителей гуманитарных наук появились ученые, которые через концепции акторно-сетевого подхода Б. Латура выявили значение субъектности и акторности, пространственности музея, сетевой коммуникации и цифровизации. Изменение концепции музея в теории и музейной практике привело к тому, что сегодня музейная политика все в большей степени вынуждена ориентироваться на посетителей и музейное сообщество, социокультурные практики и опыт, на феномены вовлечения и участия.
Проведя систематизацию исследований современного состояния отношений музея с властными структурами и обществом, можно отметить, что в настоящее время общественному сознанию свойственна ситуация перехода от рефлексии единственной «культуры» к пониманию факта наличия многих «культур», обладающих собственной ценностью. Музеи пытаются быть открытыми для разнообразных сообществ, изменяясь организационно. В условиях финансовых ограни- чений в музейную деятельность, помимо власти и аудитории, вовлекаются новые акторы, меняющие музей: партнеры, грантодатели, спонсоры, меценаты, которые предъявляют серьезные требования к результатам и эффективности этой деятельности. Аудитория перестает рассматриваться как масса людей, каждый человек в ней приобретает собственное лицо, знания, индивидуальность, потребности, рефлексивные эмоции. Исследователи музейной аудитории подчеркивают, что она обретает акторность и осознание важности восприятия передаваемых ей музеем сообщений, то есть коммуникации. Концепция «традиционного музея» с его пониманием публики как музейной толпы, требующей образования и воспитания, сменяется концепцией «музея-соучастника», в котором происходит переори- ентация на посетителя и его интересы [27]. Одновременно научное сообщество занимается разработкой методологических и методических инструментов, призванных выявить потребности аудитории и измерить эффекты музейной политики.
Представляется, что синтез рассмотренных подходов к научному осмыслению различных аспектов взаимодействия власти, музея и общества может явиться основой для создания интегративной методологии, призванной придать новый импульс разработкам в области музейной политики. В частности, первостепенной задачей здесь является уточнение понятийного аппарата, используемого в подобных исследованиях, уже сейчас представляющих собой достаточно значимый сегмент изучения музейной сферы в целом.
Olga I. BYCHKOVA
Studying Museum Policy:
The Evolution of Conceptual Approaches
Список литературы Изучение музейной политики: эволюция концептуальных подходов
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.
- Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели: монография. СПб.: Изд-во Сев.-Зап. ин-та рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы. 2011. 167 с.
- Дубин Б. Архив и высказывание. К социологии музея в современной России // Вестник общественного мнения. 2011. №3 (109). С. 106–109.
- Дукельский В. Ю. Культурная политика и региональная специфика. // Музей и регион / Отв. ред. А. В. Лебедев. М.: Рос. ин-т культурологии, 2011. С. 11–35.
- Зукин Ш. Культуры городов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 424 с.:
- Иконникова С. Н. История культурологических теорий. Учебное пособие / 2-е изд., переработ. и дополн. СПб.: Питер, 2005. 474 с:
- Каган М. С. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания. 1994. №°4. С. 445–460.
- Куклинова И. А. Новая музеология: современное осмысление концепта // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2020. № 3 (44). C. 68–72. DOI 10.30725/2619-0303-2020-3-68-72
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 381 с.
- Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 432 с.
- Лещенко А. Г. Посткритическая музеология // Вопросы музеологии. 2017. №2(16). С. 22–29
- Максимова А. С. Развитие подходов к изучению музеев в социальных и гуманитарных науках // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. № 22(2). С. 118–146.
- Морозова Е. В. Музейная политика: содержательный аспект понятия // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2016. № 1 (26). С.97–99.
- Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII—XX вв.) /сб. науч. тр. науч.-исслед. ин-та культурологии. М.: б.и., 1991. 323 с.
- Музей: Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
- Фролов А. И. Советские музеи в зеркале прессы (по материалам периодической печати 1988 г.) // На пути к музею XXI века. М.: б.и., 1989. С. 5–34.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М: Ад Маргинем Пресс, 1975. 226 с.
- Bennett T. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London; New York: Routledge, 1995. 278 p.
- Bourdieu P., Darbel A., Schnapper D. The Love
- of Art. European Art Museums and their Public. Cambridge: Polity Press, 1991. 182 p.
- Chaumier S. Pourquoi la muséologie ne devra plus êtreune composante du patrimoine // Nouvelles tendances de lamuséologie / sous la dir. de Fr. Mairesse. Paris: La Documentation française, 2016. P. 67–80.
- Clifford J. Museums as Contact Zones. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 1997. P. 188–219.
- Clifford J. Objects and Selves. An Afterword // Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture / Ed. by G. Stocking. Madison: The University of Wisconsin Press, 1985. P. 236–246.
- Duncan C. Civilizing rituals: Inside public art museums. London: Routledge, 1995. 192 p.
- Fyfe G. Sociology and Social Aspects of Museums // A Companion to Museum Studies / Ed. by S. Macdonald. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 592 p.
- Jacobi D. Muséologie et acceleration // Nouvelles tendances de la muséologie / sous la dir. de Fr. Mairesse. Paris: La Documentation française, 2016. P. 27–39.
- McClellan A. A Brief History of the Art Museum Public // Art and Its Public: Museum Studies at the Millenium. New Interventions in Art History. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. P. 1–50.
- Macdonald S. Behind the Scenes at the Science Museum. Oxford; New York: Berg, 2002. 293 p.
- Simon N. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010. 352 p.
- Soares Br. Br. L’invention et la réinvention de la Nouvelle Muséologie // ICOFOM Study Series. 2015. № 43а. P. 57–72.
- Prior N. Speed, Rhythm, and Time-Space: Museums and Cities. Space and Culture. 2011. №14. P.200–201.
- Yaneva A. Chalk steps on the museum floor: The ‘Pulses’ of objects in an art installation // Journal of Material Culture. 2003. № 8(2). P. 169–188. DOI. 10.1177/13591835030082003