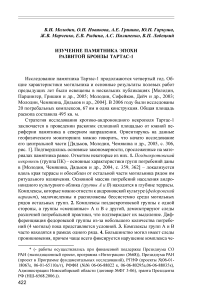Изучение памятника эпохи развитой бронзы Тартас-1
Автор: Молодин В.И., Новикова О.И., Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В., Рыбина Е.В., Пилипенко А.С., Лабецкий В.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521231
IDR: 14521231
Текст статьи Изучение памятника эпохи развитой бронзы Тартас-1
Исследование памятника Тартас-1 продолжаются четвертый год. Общие характеристики могильника и основные результаты полевых работ предыдущих лет были освещены в нескольких публикациях [Молодин, Парцингер, Гришин и др., 2005; Молодин, Софейков, Дейч и др., 2003; Молодин, Чемякина, Дядьков и др., 2004]. В 2006 году были исследованы 20 погребальных комплексов, 67 ям и одна конструкция. Общая площадь раскопа составила 495 кв. м.
Стратегия исследования кротово-андроноидного некрополя Тартас-1 заключается в проведении раскопок сплошной площадью от южной периферии памятника в северном направлении. Ориентируясь на данные геофизического мониторинга можно говорить, что начато исследование его центральной части [Дядьков, Молодин, Чемякина и др., 2005, с. 306, рис. 1]. Подтвердились основные закономерности, прослеженные на материалах памятника ранее. Отметим некоторые из них. 1. Позднекротовский некрополь (группа ПК) – основные характеристики групп погребений даны в [Молодин, Чемякина, Дядьков и др., 2004, с. 359, 362] – локализуется вдоль края террасы и обособлен от остальной части могильника рядом ям ритуального назначения. Основной массив погребений населения андро-ноидного культурного облика (группы А и В ) находится в глубине террасы. Комплексы, которые можно отнести к андроновской культуре ( федоровский вариант ), малочисленны и расположены бессистемно среди могильных рядов остальных групп. 2. Комплексы позднекротовской группы с одной стороны, а группы «смешанные» А и В с другой, демонстрируют следы различной погребальной практики, что подтверждает их выделение. Дифференциация федоровской группы из-за небольшого количества погребений (4 могилы) пока представляется условной. 3. Комплексы групп А и В часто находятся в рамках одного ряда. 4. Большинство могил имеет следы проникновения, причем чаще всего фиксируется нарушение комплекса че
* (- работы осуществлялись при финансовой поддержке Президиума СО РАН (экспедиционный проект, программа «Интеграция» (№68)), Президиума РАН (проект в Программе фундаментальных исследований), РГНФ (проекты №06-01-18067е, 06-01-65110а/т), РФФИ (№№ 06-06-88022 к, 06-06-80295а,06-06-88035к), Администрации Новосибирской области (договор №ФГ 3-06), гранта Президента РФ (НШ-6568.2006.)).
Рис. 1. План погребения 159. Контекст обнаружения бронзовых браслетов.
рез короткий промежуток времени после захоронения. 5. Хронологическая близость освоения двух основных зон некрополя (край – основная часть террасы) подтверждается их планиграфической обособленностью, присутствием бронзовых украшений и оружия срубно-андроновского типа. Функционирование некрополя относится к периоду «андронизации» населения Барабинской лесостепи (середина – вторая половина II тыс. до. н. э. – относительная дата указана приближенно, т.к. в данный момент ведется работа по датированию разных культурных комплексов некрополя по С14).
Изученные в 2006 г. погребальные комплексы относятся ко всем четырем выделенным ранее основным группам погребений. Следует отметить обнаружение еще двух могил, сооруженных по канонам, близким к федоровской ритуальной практике. Их общим признаком, помимо южной ориентировки могильной ямы, положения умершего скорченно на левом боку и планиграфических особенностей погребений, является плохая сохранность костей человеческих скелетов и костяных находок. Данное наблюдение подтверждается сравнением со степенью сохранности костных останков из комплексов других погребальных групп, которые расположены в непосредственной близости и имеют примерно одинаковую глубину и условия залегания. Возможно, что при ритуальных действиях производились какие-то манипуляции с о станками умершего и инвентарем или формировался специфический состав заполнения могилы. Взятые пробы заполнения из погребений могут позволить уточнить причину наблюдаемого явления.
Из наиболее ярких находок следует упомянуть три бронзовых браслета срубно-андроновского типа со спиралевидными окончаниями (погребение №159 – рис. 1). Предметы находились in situ на костях скелета взрослого человека из коллективной позднекротовской могилы. Очевидно, что браслеты первоначально были расположены вплотную друг к другу на средней части предплечья. Подобный контекст обнаружения браслетов (по три на руке) в позднекротовских комплексах отмечен впервые, но сами изделия уже встречались в захоронениях позднего этапа кротовской культуры на могильнике Сопка-2 [Молодин, 1985, с. 65, рис. 31, 1-8 ], а подобное положение браслетов характерно для андронов-ских комплексов (см., например, [Потемкина, 2001, с. 63, рис. 1, 9 ; Усманова, 2005, с. 121]). Погребение №159 было нарушено, поэтому оценить весь комплекс украшений в захоронении не представляется возможным.
Неожиданным результатом явилось обнаружение на территории могильника котлована полуземляночной конструкции (рис. 2). Нужно отметить, что в данных геофизического мониторинга сооружение не представлено единой аномалией (остальные аномалии в большинстве своем совпали с контурами погребений и ям). Котлован имеет на уровне материкового суглинка размеры 8,0-8,2 х 8,9-9,2 х 0,34-0,46 м и прямоугольную форму. Он ориентирован практически строго по сторонам света. Стенки котлована вертикальные, дно ровное. Вход можно предварительно соотнести с вытянутой ямой, примыкающей перпендикулярно к центральной части восточной стенки. Близкие к углам участки трех стен имеют узкие материковые выступы во внутреннюю часть котлована. Выступы направлены к центру сооружения и возможно являются частью опорной системы. Данные материковые останцы могли дополнительно подчеркивать внутреннюю планировку. Например, в одном углу, образованном выступом и восточной стеной, была обнаружена яма-зольник, а западная часть котлована, ограниченная выступами, имеет меньшую ширину (6,5 м), чем основная часть. Внутри котлована про слежены ямы, являющиеся о статками каркасно-столбовой конструкции. Вероятнее всего, 5 вертикальных столбов в центральной части обеспечивали опору кровли (глубина 0,54-0,29 м). В центре находилось вытянутое углубление со следами прокала на стенках и в заполнении. По всей видимости, это – о статки очага. В очажной яме найдены небольшие фрагменты глиняных литейных форм, глиняная литейная шишка, фрагменты ошлакованной керамики.
В стратиграфической колонке заполнения сооружения выделяется слой уровня древнего пола, мощность которого не превышает 0,05 м. Верхняя его граница местами маркируется горизонтальными скоплениями мелких фрагментов керамики, практически крошки, и немногочисленным ко стями животных. Вдоль стен котлована концентрация находок несколько увеличивается, как в слоях, образовавшихся при разрушении конструкции, так и на уровне пола. Обнаружены два крупных скопления фрагментированных керамических сосудов. По орнаментации отдельные сосуды можно соотнести с керамикой, как одино-крохалёвского типа, так и с посудой гребенчато-ямочной традиции. Очевидно, что весь керамический комплекс, несомненно, доандроновский.
К сооружению, судя по заполнению, характерной керамике и расположению, отно сится часть ям, расположенных в непосредственной близо сти от котлована. С данной постройкой может быть связана яма №147, содержавшая двустворчатую глиняную форму для отливки бронзового кельта и фрагменты льячки, обнаруженные в заполнении одной из примыкающих к котловану могил (№153 – рис. 2). Несмотря на то, что зафиксированы два случая достоверного перекрытия края заполнения котлована погребениями андроноидного могильника (рис. 2), ни одно из них не было сооружено полностью в котловане. Вероятно, на момент формирования некрополя заплывший котлован конструкции еще мог быть выражен рельефно, а помещение могилы в западину было

Рис. 2. План-схема конструкции 4.
для исполнителей обряда нежелательным. Впрочем, не следует исключать и других причин, объясняющих такое положение вещей. Мы имеем в виду сакральный характер конструкции, семантически связанный с захоронениями.
Из известных, эпохально близких полуземляночных конструкции, сопоставимых по некоторым элементам, можно отметить жилища самусь-ской (Крохалевка-1) [Молодин, Глушков, 1989, с. 114, 116] и кротовской культур (Преображенка-3) [Молодин, 1973], однако, абсолютных аналогий исследованного сооружения пока не найдено. Характер заполнения и стратиграфические наблюдения указывают на то, что перед нами сооружение доандроновской бронзы со следами производственной или ритуальной деятельности. Интерпретация комплекса пока не может быть однозначной.
При полевых и лабораторных исследованиях материалов памятника Тартас-1 реализуется мультидисциплинарный подход. Антропологическая коллекция памятника подвергается комплексному антрополого-генетическому изучению (исследования ведут к.и.н. Д.В. Поздняков (ИАЭТ СО РАН), к. б. н. А.Г. Ромащенко, А.С. Пилипенко (ИЦиГ СО РАН)). В полевой практике это выразилось в том, что при работе с костями человека используются медицинские перчатки, а у всех сотрудников, занятых на разборе и обработке антропологического материала, взяты пробы крови. Данные процедуры помогут минимизировать информационные помехи при палеогенетических исследованиях. Документация памятника является основой базы данных, формирующейся в рамках ГИС Mapinfo (формированием базы данных занимается ведущий инженер ИАЭТ СО РАН Е.В. Рыбина). По материалам памятника планируется провести датирование объектов с применением различных методик на базе отечественных и зарубежных лабораторий в рамках самостоятельного исследовательского проекта.