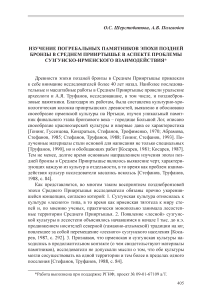Изучение погребальных памятников эпохи поздней бронзы в Среднем Прииртышье в аспекте проблемы сузгунско-ирменского взаимодействия
Автор: Шерстобитова О.С., Полеводов А.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521560
IDR: 14521560
Текст статьи Изучение погребальных памятников эпохи поздней бронзы в Среднем Прииртышье в аспекте проблемы сузгунско-ирменского взаимодействия
Древности эпохи поздней бронзы в Среднем Прииртышье привлекли к себе внимание исследователей более 40 лет назад. Наиболее последовательные и масштабные работы в Среднем Прииртышье провели уральские археологи и А.Я. Труфанов, исследовавшие, в том числе, и позднебронзовые памятники. Благодаря их работам, была составлена культурно-хронологическая колонка прииртышских древностей, выявлено и обосновано своеобразие ирменской культуры на Иртыше, изучен уникальный памятник финального этапа бронзового века – городище Большой Лог, описано своеобразие красноозерской культуры и впервые дана ее характеристика [Генинг, Гусенцова, Кондратьев, Стефанов, Трофименко, 1970; Абрамова, Стефанов, 1985; Стефанов, Труфанов, 1988; Генинг, Стефанов, 1993]. Полученные материалы стали основой для написания не только специальных [Труфанов, 1990], но и обобщающих работ [Косарев, 1981; Косарев, 1987]. Тем не менее, долгое время основным направлением изучения эпохи поздней бронзы в Среднем Прииртышье являлось выявление черт, характеризующих каждую из культур в отдельности, в то время как проблем взаимодействия культур исследователи касались вскользь [Стефанов, Труфанов, 1988, с. 84].
Как представляется, во многом таким восприятием позднебронзовой эпохи Среднего Прииртышья исследователи обязаны прочно укоренившейся концепции, согласно которой: 1. Сузгунская культура относилась к культуре «лесного» типа, в то время как ирменская тяготела к миру степей и, по мнению ученых, практически монопольно занимала лесостепные территории Среднего Прииртышья. 2. Появление «лесной» сузгунс-кой культуры в лесостепи объяснялось начавшимся в начале І тыс. до н.э. продвижением носителей северной (гамаюно-атлымской) традиции на юг, повлекшее за собой перемещение «лесного» сузгунского населения [Косарев, 1987, с. 292]. 3. Признавая, что ирменская и сузгунская культуры находились в продолжительном контакте (о чем свидетельствуют материалы памятников), исследователи не допускали мысли о том, что обе культуры могли сосуществовать на одной территории и тем более в пределах одного поселения [Стефанов, Труфанов, 1988, с. 84].
В настоящее время (благодаря новым и неоднократным пересмотрам материалов ранее исследованных памятников) значительно возросло количество данных, свидетельствующих об интенсивном сузгунско-ирменском взаимодействии в лесостепной и в предтаежной зоне, т. е. непосредственно на территории, закрепленной ранее исследователями за населением розановского (среднеиртышского) варианта ирменской культуры, хотя уже тогда были известны погребальные комплексы могильника Калачевка-ІІ, содержащие материалы, неоднородные в культурном отношении. Один из исследованных курганов дал материалы эпохи поздней бронзы. В погребении обнаружен чашевидный круглодонный сосуд с геометрическим орнаментом и бронзовый однолезвийный нож с монетовидным наверши-ем [Могильников, 1968, с. 94-97]. Позднее А.Я. Труфанов, обративший внимание на сочетание в погребении «ирменского» монетовидного ножа и типичного сузгунского чашевидного сосуда, предположил, что оно оставлено смешанным ирменско-сузгунским населением [Труфанов, 1991, с. 77]. Разделяя мнение исследователя о смешанном характере оставившего данное погребение населения и о компонентах, его слагающих, нам, тем не менее, кажется предпочтительным акцентировать на сузгунском компоненте, поскольку металлические изделия данной категории вряд ли могут служить более надежным культурно-диагностирующим признаком, нежели керамика. Впоследствии работы на могильнике были продолжены А.Я. Труфановым, который относит все исследованные погребения к ир-менской культуре, а в отношении керамического материала замечает, что все сосуды «…вполне уверенно можно назвать ирменскими, несмотря на то, что они лишены специфических ирменских орнаментов» [Труфанов, 1991, с. 77]. Среди сопроводительного инвентаря следует отметить бронзовые гвоздевидные подвески и три керамических сосуда. Гвоздевидные подвески – характерное украшение ирменского населения, известное на всей территории распространения культуры, в отличие от керамических сосудов, чья культурная атрибуция не столь очевидна. Орнаментальное поле сосудов заполнено редкими монотонными композициями, в одном случае сочетающими горизонтальную «елочку» на шейке и два ряда наклонных оттисков в зоне плечико-тулово [Труфанов, 1991, рис. 2– 1 ]. Эти орнаменты не характерны ни для ирменской, ни для сузгунской погребальной посуды, которая очень канонична и орнаментирована, главным образом, геометрическими узорами. По всей видимости, монотонность орнаментов на сосудах могильника объясняется смешанным обликом погребенного здесь населения, демонстрирующего наглядное отражение в закрытых комплексах процессов сузгунско-ирменского взаимодействия. Обозначенные процессы выявляются и на основе многочисленных поселенческих материалов. Среди новых памятников, дающих представительные серии смешанной сузгунско-ирменской посуды, можно отметить поселенческие комплексы Надеждинка-ІV\V, Алексеевка - І и ХХІ (п р едтаежная зона Ср е днего Прииртышья) [Шерстобитова, 2008а, 2008б]. Среди ранее известных –
Сибирская Саргатка-І, Черноозерье-VІІІ, Красноозерское поселение, также обладающие материалами, свидетельствующими о межкультурном взаимодействии. Но, пожалуй, одним из самых ярких памятников, отражающих сложные межкультурные процессы в лесостепи Среднего Прииртышья, является курганный могильник Боровянка-ХХVІІ, в течение ряда лет исследующийся экспедицией НАПП «Батаково» (автор работ – А.В. Полеводов). Могильник насчитывает более 30 насыпей. Центральная часть представлена позднебронзовыми погребениями, в то время как периферийная – сооружениями раннего железного века. Уникальность памятника связана с выявленным фактом сосуществования в пределах одного пространства сооружений сузгунских и ирменских курганов, расположенных в непосредственной близости друг от друга и, вероятно, сооруженных относительно синхронно. Подробный анализ выявленным погребениям уже дан в литературе [Полеводов, 2008], однако в ходе работ на могильнике Боровянка-ХХVІІ в 2009 году обнаружены новые свид е тельства сузгунско-ирменских контактов. Было исследовано два кургана, один из которых, судя по керамическому инвентарю, соотносится с сузгунской, а второй – с ирменской культурой. Диаметр обоих насыпей не превышал 8,5 м. В обоих курганах обнаружено по одной могиле, расположенной в центре на материке. Инвентарь представлен исключительно керамическими сосудами, установленными в ряд, по линии СВ-ЮЗ, слева от погребенных. Следует заметить, что, в отличие от исследований прошлых сезонов, в 2009 году деление курганов на две культурные линии довольно условно, поскольку обнаруженный керамический комплекс обоих сооружений синкретичен, и, в отличие от раскопок предыдущих лет, не соотносим ни с сузгунскими, ни с ирменскими погребальными канонами в их чистом виде. Орнаментация сосудов из обоих курганов демонстрирует высокую степень синкретизма, выраженную в сочетании фестонов (ирменская традиция) с формованным валиком, украшенным плотным «елочным» орнаментом и рядами специфически сузгунского штампа «скоба» на шейке.
Таким образом, даже в пределах единого погребального пространства отражены процессы не только тесного сосуществования сузгунской и ирменской традиций, но и их интенсивного взаимодействия , рождающего новые, смешанные формы. Благодаря исследованию новых и пересмотру материала старых памятников, на сегодняшний день можно говорить о том, что лесостепное Прииртышье в эпоху поздней бронзы не было монокультурным, сузгунская культура к началу І тыс. до н.э. уже существовала здесь, и не только чересполосно , но и совместно с ирменской традицией. Упомянутое продвижение северных (гамаюно-ат-лымских) групп вряд ли можно считать массовым явлением. Исходя из анализа археологического материала, они проникли в Среднее Прииртышье на этапе, когда процесс сузгунско-ирменского взаимодействия уже достиг своего расцвета.