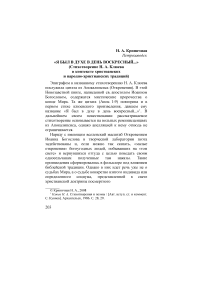«Я был в духе в день воскресный...» (стихотворение Н. А. Клюева в контексте христианских и народно-христианских традиций)
Автор: Криничная Н.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.8, 2008 года.
Бесплатный доступ
С точки зрения автора данной статьи, в архитектонике стихотворения Н. А. Клюев использует трехчастную композицию, присущую фольклорным «откровениям». При этом структуру сюжета клюевского стихотворения определяют фольклорные составляющие, соотносимые с аналогичными «звеньями» Апокалипсиса
Клюев, православие, культурная традиция, русская лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/14749227
IDR: 14749227
Текст статьи «Я был в духе в день воскресный...» (стихотворение Н. А. Клюева в контексте христианских и народно-христианских традиций)
Эпиграфом к названному стихотворению Н. А. Клюева послужила цитата из Апокалипсиса (Откровения). В этой Новозаветной книге, написанной св. апостолом Иоанном Богословом, содержатся мистические пророчества о конце Мира. Та же цитата (Апок. 1:9) повторена и в первом стихе клюевского произведения, давшем ему название «Я был в духе в день воскресный...»1. В дальнейшем своем повествовании рассматриваемое стихотворение основывается на вольных реминисценциях из Апокалипсиса, однако апелляцией к нему отнюдь не ограничивается.
Наряду с имеющим вселенский масштаб Откровением Иоанна Богослова в творческой лаборатории поэта задействованы и, если можно так сказать, «малые откровения» богоугодных людей, побывавших на «том свете» и вернувшихся оттуда с целью поведать своим односельчанам полученные там наказы. Такие произведения сформировались в фольклоре под влиянием библейской традиции. Однако в них идет речь уже не о судьбах Мира, а о судьбе конкретно взятого индивида или определенного социума, представленной в свете христианской доктрины посмертного
воздаяния. И все же в каждом из «малых откровений» по-своему преломляется Апокалипсис, новозаветное, вселенского масштаба Откровение, вошедшее в состав Священного Писания.
В архитектонике своего произведения Н. А. Клюев использует трехчастную композицию, присущую фольклорным «откровениям». В Откровении же Иоанна Богослова, в отличие от соотносимых о ним легенд, третья часть совмещена с первой. Структуру сюжета клюевского стихотворения определяют фольклорные составляющие, соотносимые с аналогичными «звеньями» Апокалипсиса:
-
♦ вхождение в состояние, позволяющее посетить трансцендентный мир, где сосредоточены все начала и все концы сущего;
-
♦ получение божественного откровения;
-
♦ оповещение о нем людей с целью спасения их душ от вечной погибели.
В составе анализируемого произведения эти составляющие соотносятся между собой как экспозиция, центральная часть и эпилог.
Рассмотрение первой части клюевского стихотворения, состоящей из одной строфы, начнем с выявления семантики цитаты, которой оно открывается: «Я был в духе в день воскресный...». В самых общих чертах выражение «был в духе», если учитывать его контекст, следует понимать как обретение некоего сверхчувственного состояния мистического экстаза. Именно этим состоянием и обеспечивается возможность воспринять сокровенные тайны, связанные с пророчествами относительно конца Мира. Конкретизируя же анализ интересующего нас выражения, заметим, что само слово «дух» в Священном Писании употребляется в различных значениях. Применительно же к нашему случаю «дух» осмысляется как нечто производное от
Духа Святого. В христианской традиции Святой Дух представлен как Бог, Третье Лицо Святой Троицы. Исходящий от Отца, он послан в мир Иисусом Христом, чтобы вдохновлять людей Божиих возвещать высшую истину и поступать в соответствии с волей Его:
Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и напомнит вам все, что Я говорил вам (Иоанн. 14:26).
Он же «будущее возвестит вам» (Там же. 16:14). В пользу именно такой точки зрения свидетельствуют апокрифы, где на апостолов и пророков нисходит, обеспечивая
204 им переживание мистического экстаза, именно Святой Дух. «И был я в Духе Святом» (курсив мой. — Н. К.), — говорится в апокрифическом «Видении апостола Павла»2. Для реконструкции состояния, в котором изображается клюевский лирический герой (он «был в духе»), наиболее репрезентативна апокрифическая картина сошествия Святого Духа на пророка Исайю. Когда Святой Дух сошел на него, Исайя заговорил его «силою», но внезапно умолк и перестал видеть стоящих перед ним, «ибо дуновение было в нем»3. Потеря дара речи и зрения символизирует особое состояние пророка, которое в фольклорной традиции характеризуется как обмирание, то есть переживание временной смерти, временного выхода души из тела. Об этом, согласно апокрифу, свидетельствуют и присутствующие здесь пророки: видение, открывшееся тогда Исайе, «было не от мира сего, но [от мира], утаенного от всего плотского»4. Надо полагать, что состояние подобного «перехода» из одного мира в другой претерпел клюевский лирический герой, когда он «был в духе».
Вторая часть библейской цитаты, послужившей и эпиграфом, и началом стихотворения Н. А. Клюева, определяет темпоральные параметры пребывания лирического героя «в духе»: это было «в день воскресный». Именно воскресный день, по свидетельству евангелистов, ознаменован воскресением распятого Христа: «...по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели» (Мф. 28:1). Такой же характер имеют и временные координаты сошествия Святого Духа на апостолов: оно произошло в виде языков, похожих на огненные, в пятидесятый день по Воскресении Христовом: «...при наступлении дня Пятьдесятницы» (Деян. 2:1—4). (Церковь же отмечает день Святой Троицы, или Пятидесятницы, в воскресенье, а день Святого Духа — в следующий за ним понедельник.)
Соответственно и в апокрифическом сказании Еноху, библейскому патриарху, взятому, по легенде, живым на небо (Быт. 5:21—24), являются ангелы «в особый день, в первый день первого месяца»5, то есть в первый день Пасхи, — опять-таки в Воскресение Христово. В событии Воскресения Господа из мертвых, как и его крестной смерти,
Из первой же части анализируемого произведения выясняется, что лирический герой, локализованный в сакральном хронотопе, изображается «осененным высотой». Следует полагать, что в этом своем состоянии он направляется туда, где пребывает после вознесения Христос вместе с душами праведников.
И этому клюевскому стиху есть соответствие в Откровении святого Иоанна Богослова:
И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога (Апок. 21:10).
В апокрифическом сказании вместе с ангелами взошел на небо Енох:
...позвали эти мужи меня, и взяли на свои крылья, и вознесли на первое небо, и поставили на облаках7.
В подобном свете «осененным высотой» назван тот, кто возвысился над суетным и бренным и совершил духовное восхождение к святому и сокровенному, кто отмечен и призван свыше в качестве Божьего избранника.
Два других стиха в рассматриваемой строфе вносят дополнительные характеристики в состояние лирического героя, причастного небесам: он «просветленнобестелесный и младенчески простой». О первом из этих качеств Н. А. Клюев пишет и в других произведениях:
Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край8.
В рассматриваемом же стихотворении душу в облике гуся заменяет некая просветленно-бестелесная субстанция, высвободившаяся из плоти. Эта поэтическая сентенция соответствует библейским постулатам. Бог вдунул в человека архимандрита Никифора. М., 1891. С. 554.
-
7 Книга Еноха. С. 47.
-
8 Поэту Сергею Есенину: Оттого в глазах моих просинь // Клюев Н. Песнослов: Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. ст. и коммент. С. И. Субботина и И. А. Костина. Петрозаводск, 1990. С. 87.
и «дыхание жизни», то есть душу (Быт. 2:7), которая по завершении земной жизни возвращается к Богу:
И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, который дал его (Еккл. 12:7).
То же касается и временной смерти, в состоянии которой клюевский лирический герой устремляется к небесным высотам. Субстанция его, освобожденная от плоти, «просветленно-бестелесна», что служит знаком-символом праведной души, просвещенной христианским вероучением. Идея же безгрешности этой души реализуется поэтом посредством эпитета «младенчески простой», относящегося к «просветленно-бестелесному» герою. Дело в том, что в народных легендах именно дети (впрочем как и бедняки) признаны самыми чистыми и безгрешными, что соответствует и христианским постулатам. С другой стороны, в «младенчески простом» состоянии лирического героя можно увидеть и знак возвращения души к своей изначальной чистоте и бестелесности.
В свою очередь Священное Писание не дает однозначного ответа на вопрос: во плоти или бесплотно посещает Божий избранник иной мир? Так, апостол Павел, сообщая о том, как один человек, которого он знал, был «восхищен» на небо, обронил при этом:
...в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает (2 Кор. 12:2, 3).
В апокрифах же святой может перенестись в запредельные сферы и во плоти. Таков, в частности, библейский патриарх Енох, взятый, по легенде, на небо живым9. Таков и пророк Исайя, о котором, когда он уже был на седьмом небе, некий голос сказал:
Куда восходит живущий во плоти?10
И другой голос отвечал:
...здесь есть одежда [его]11.
Тот факт, что в момент мистического экстаза Исайю видели в «мире сем», не исключает его пребывания во плоти в ином мире. Согласно «закону сопричастия», открытому Л. Леви-Брюлем, мифологическое мышление в состоянии
Переходим к анализу центральной части данного произведения.
Попавшему в запредельные сферы клюевскому лирическому герою, определенному нами как визионер, или тайнозритель, открывается картина битвы вселенского масштаба. Она очерчена лаконичными, но чрезвычайно насыщенными штрихами.
За емким выражением «ратей колесницы» вырисовывается динамическая картина поля битвы с использованием боевых колесниц, символизирующих в Священном Писании небесные силы и воинства. Судя по изображениям, сохранившимся на древних ассирийских и египетских памятниках, боевая колесница состояла из станка, задняя часть которого опиралась на ось, поддерживаемую двумя колесами. Возничий, стоящий в кузове боевой колесницы, управлял одной, двумя или несколькими лошадьми. При этом углубленная платформа предназначалась для стрелков, вооруженных луками и колчанами со стрелами. Защищенная от горящих метательных снарядов, от стрел и копий противника, колесница мчалась впереди фронта или флангов наступающей пехоты, взламывая линию обороны врага.
Лаконичное клюевское «ратей колесницы» может быть «прочитано» и посредством гомеровского описания приготовления колесницы к бою:
Коней меж тем Автомедон и сильный Алким снаряжали;
В пышных поперсьях к ярму припрягли их; удила и морды Втиснули им и, бразды натянув, к колеснице прекрасной Их укрепили за кузов. Тогда, захвативши рукою
Гибкий блистательный бич, в колесницу вскочил Автомедон.
Сзади, готовый к сражению, стал Ахиллес быстроногий, Весь под доспехом сияя, как Гиперион лучезарный.
(Гомер. Илиада. 19:392—398)
На фоне «ратей колесниц» в клюевском стихотворении изображен Архистратиг с «кроваво-дымными» «крылами»: он источает «кровь и пламень». В этом персонаже узнаваем Михаил Архангел — архистратиг, то есть верховный военачальник, полководец «воинства небесного» — верных Богу ангелов. В невиданной доселе космической битве он сражается против сил зла, персонифицированных в драконе (дьяволе, Сатане). Эта битва осмысляется как эсхатологическая. «Судный жертвенник и крест» знаменуют, надо полагать, Страшный суд Божий (к этой теме поэт возвращается неоднократно). Причем крест (Животворящий Крест), будучи некогда орудием позорной казни, теперь становится символом жизни и победы над грехом12. Судьбоносная для Мира битва свершается по Божьему предопределению. Его символизирует перст, принявший очертания звездного Млечного пути, где каждая звезда знаменует судьбу конкретного человека. По Клюеву, это «указующей десницы путеводно-млечный перст». (В другом стихотворении аналогом такой «десницы» является «звездоперстая стопа»13.) В целом данная картина служит поэтической реминисценцией из последней Новозаветной книги — Откровения святого Иоанна Богослова:
И произошла на небе война. Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и Ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его (Апок. 12:7— 10).
Увиденная визионером битва с силами зла и победа над ними, по земным меркам, еще только должна произойти в будущем. Однако присущая иному миру слитность времен — прошлого, настоящего и.будущего — позволяет тайнозрителю стихотворения повествуется о том, как визионер (клюевский лирический герой) получает наказ в запредельных сферах. Наказ исходит все от того же Архистратига. Многозначность его образа выражена поэтом одним словом «многолик». В данном случае Михаил Архангел выступает в роли психопомпа, то есть проводника души обмершего по «тому свету». Таковой миссией он наделяется поэтом не случайно: ангел или архангел в библейской, апокрифической, агиографической и фольклорной традициях неизменно представлен в качестве посредника между людьми и Богом.
В рассматриваемом стихотворении наказ, данный лирическому герою-тайнозрителю, получает вербальноматериальное выражение:
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.
И сказал: «Венчайся белым
Твердокаменным (курсив мой. — Н. К.) венцом...»
Перед нами опять-таки реминисценция из Откровения святого Иоанна Богослова:
Расшифровывая смысл этого изречения, богословы расходятся в своих суждениях. По мнению одних, здесь отразился древний обычай, практикуемый при судопроизводстве: брошенный в урну белый шар означал невиновность обвиняемого. Другие же полагают, что в приведенных словах Откровения содержится «указание на белые камни, раздаваемые победителям на Олимпийских играх с начертанием на оных их имен и ценности выигранного ими приза»15. Возможно, в образе белого камня присутствует и та и другая семантика. Во всяком случае, знаки-символы Суда и воздаяния в данном стихотворении имеют место. Не исключено, что в качестве воплощения наказа, которое вручается клюевскому тайнозрителю, белый камень приравнивается к скрижалям — каменным плитам, на которых самим Господом были начертаны десять заповедей Закона Божия16. Такому истолкованию, по сути, не противоречит осмысление образа камня, в том числе и белого, в фольклорной традиции, где надпись на нем служит формулой судьбы, вызывая ассоциации с книгами родословия, с книгами судеб17.
Венцом, сотворенным из белого камня, намерен навечно увенчать клюевского героя Архистратиг, давая ему при этом наказ:
И другому талисману Не вверяйся никогда...
Поскольку венец — в первую очередь круг, а круг означает вечность и судьбу18, то в этом белокаменном атрибуте можно усматривать знак божественного предначертания. Если белизна камня, из которого предуготовлен венец для Божьего избранника, символизирует чистоту и непорочность последнего, то тяжесть такого венца знаменует тяготы подвижнического служения. Возможность достижения духовного просветления посредством отказа от иллюзорных радостей суетного и бренного мира постулируется
17 Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 449, 454, 455.
18Там же. С. 775, 776.
211 в заповедях, данных клюевскому герою в запредельных сферах и обобщенных в лаконичной формуле:
Будь убог и темен телом, Светел духом и лицом.
Перед тайнозрителем «многоликий» Архистратиг выступает и как добрый пастырь, непрестанно заботящийся о спасении своего стада — человеческих душ, в том числе и души клюевского героя:
Я пасти не перестану С высоты свои стада.
В этой ипостаси Михаил Архангел уподобляется самому Иисусу Христу, который сказал:
Я есть пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Иоан. 10:11).
Не случайно, согласно народной этимологии, имя архангела Михаила означает:
Кто как Бог?19
На вольных реминисценциях из Откровения основывается и заключительная строфа второй части клюевского стихотворения. В ней содержится картина мироздания, представленная по завершении эсхатологической драмы. О недавней, имеющей вселенский масштаб битве напоминают все еще кроваводымные «крыла» Архистратига, победившего Сатану. Знаком-символом нового мироздания в стихотворении Н. А. Клюева служит «подлунный храм», воплотивший в себе весь мир, — его облетает тот, кто приравнен к Богу.
Здесь души невинных заново обретают плоть. Из пепла их тел созидается «лазурная» жизнь, которая в другом клюевском стихотворении дублируется «лазурно-беспотемной» обителью, локализованной в раю (стихотворение «В Моем раю обитель есть...»)20. Все это признаки обновленного космоса, природного и социального. Их семантические соответствия обнаруживаются в Откровении святого Иоанна Богослова:
И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... и смерти не будет уже; ни плача,
Увенчанный в горнем мире, он, подобно пушкинскому пророку21, «полон звуков и огня»: лишь с их помощью можно донести до людей божественное Откровение. В этом качестве клюевский герой сближается с авторским «я», хотя и не отождествляется с ним. Миссия поэта, как заметила исследователь творчества Н. А. Клюева Е. И. Маркова, сопоставима с миссией пророка и даже самого Спасителя22.
Характерно, что и эпилог рассматриваемого стихотворения также основывается на реминисценции из новозаветного Откровения. В этом свете клюевский герой уподобляется святому первоапостолу и евангелисту Иоанну Богослову, которому в сходной, хотя и имеющей статус изначальной, ситуации было когда-то сказано: «...напиши; ибо слова сии (Откровения. — Н. К.) истинны и верны» (Апок. 21.5).
Список литературы «Я был в духе в день воскресный...» (стихотворение Н. А. Клюева в контексте христианских и народно-христианских традиций)
- Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы/[Авт. вступ. ст. и коммент. С. Куняев]. Архангельск, 1986. С. 28, 29.
- Видение апостола Павла//Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования/Отв. ред. и сост. В. В. Мильков. М., 1997. С. 61.
- Видение Исайи//Апокрифы Древней Руси. С. 91.
- Пасха новозаветная//Библейская энциклопедия/Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891. С. 554.
- Книга Еноха. С. 47.
- Поэту Сергею Есенину: Оттого в глазах моих просинь//Клюев Н. Песнослов: Стихотворения и поэмы/Сост., вступ. ст. и коммент. С. И. Субботина и И. А. Костина. Петрозаводск, 1990. С. 87.
- Книга Еноха/Коммент. В. М. Хачатурян. С. 54, 55
- Соколов М. И. Славянская книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 22.
- Алексеев С. Энциклопедия православной иконы: Основы богословия иконы СПб., 2001. С. 257.
- Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии//Этнографическое обозрение. 1899. № 3. С. 54, 55.
- Камень белый//Библейская энциклопедия. С. 379.
- Скрижали Завета//Библейская энциклопедия. С. 659.
- Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 449, 454, 455.
- Мейлах М. Б. Михаил//Мифы народов мира: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 158.
- Клюев Н. Стихотворения. Поэмы/Вступ. ст., сост. и подгот. текста К. Азадовского. М., 1991. С. 75.
- Мальчукова Т. Г. Память поэзии (О сравнительно-типологическом изучении классической лирики). Петрозаводск, 1985. С. 38-64.
- Маркова Е. И. Творчество Николая Клюева в контексте северно русского словесного искусства. Петрозаводск, 1997. С. 165.