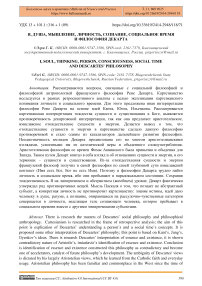Я, душа, мышление, личность, сознание, социальное время и философия Декарта
Автор: Эзри Г.К.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы, связанные с социальной философией и философской антропологией французского философия Рене Декарта. Картезианство исследуется в рамках ретроспективного анализа с целью экспликации картезианского понимания личности и социального времени. Для этого предложена иная интерпретация философии Рене Декарта на основе идей Канта, Юнга, Ильенкова. Рассматривается картезианская интерпретация тождества сущности и существования в Боге, выявляется противоречивость декартовской интерпретации, так как она предлагает аристотелевское, имяславское отождествление сущности и энергии. Делается вывод о том, что отождествление сущности и энергии в картезианстве сделало данную философию противоречивой и стало одним из катализаторов дальнейшего развития философии. Неоднозначность взглядов Декарта продиктована его во многом аристотелианскими взглядами, усвоенными им из католической веры и обыденного словоупотребления. Аристотелевская философия со времен Фомы Аквинского была привычна и обыденна для Запада. Таким путем Декарт впитал в себя взгляд и об отношениях сущности и энергии, в его терминах – сущности и существования. Из-за отождествления сущности и энергии французский философ получил в своей философии по своей глубинной сути имяславский контекст (Имя есть Бог, Бог не есть Имя). Поэтому в философии Декарта трудно найти личность и социальное время, ибо они пребывают в парадоксальном состоянии. Сохраняя тождественность Я на эмпирическом и абстрактном (всеобщем) уровне, Декарт фактически утверждал ряд противоречивых вещей. Мысль Паскаля о том, что познает не абстрактный субъект, а конкретная личность не противоречит картезианству: знание истины, идей дано человеку в душе, разуме, а познание, опирающиеся на рассудочно-чувственные категории совершается в личности, мыслящем теле сознающего человека, которое пребывает в социальном времени вместе с другими эмпирическими субъектами.
Социальное время, личность, сознание, душа, разум, рассудок, чувство, картезианство
Короткий адрес: https://sciup.org/14133820
IDR: 14133820 | УДК: 13+101.1::316+1(09) | DOI: 10.33619/2414-2948/118/71
Текст научной статьи Я, душа, мышление, личность, сознание, социальное время и философия Декарта
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 13 + 101.1::316 + 1 (09)
Рене Декарт – один самых известных европейских философов, один из родоначальников новоевропейской науки, философ-дуалист, совместивший в своей философии глубокую веру в Бога и естественнонаучное знание. Цель данной статьи – не пересказ философии Декарта в том, виде в котором она обычно излагается, а ретроспективный поиск таких концептов, как личность, социальное временя и со-бытие. В этой связи данная статья – иной взгляд на философскую антропологию и социальную философию Декарта, попытка найти в трудах французского философа что-то новое, того, что ранее не было обнаружено в картезианстве ранее. В данной статье для экспликации ряда идей Декарта в качестве металогической основы используется прежде всего философия Канта, Юнга, Ильенкова.
Противоречивость философии Декарта
Во вступительной статье к первому тому собрания сочинения Р. Декарта В. В. Соколов показал противоречие между двумя понимания Бога в сочинениях французского философа [2, c. 3-76].
С одной стороны, Декарт – католик, для которого Бог (Троица) – непременно личное существо, создатель мира, сущность и существование которого тождественны, но из-за различия конечного человеческого бытия и бесконечного Божественного человеку трудно познать Бога. В то же самое время, Бог Декарта – это не совсем Бог философов, т.к. он больше, чем первопричина, но не Бог, который постоянно творит чудеса – деистический Бог. Французский философ практически не употреблял термин «чудо», тем самым утверждая казуальную замкнутость физического мира. Однако во втором томе сочинений в ответе на одно из возражений он применил термин «чудо» в христианском смысле, указав на то, что пресуществление – это чудо [3, с 198]. Также В. В. Соколов показал черты пантеистичности в декартовских представлениях о Боге в возрожденческом духе [2, c. 3-76].
Естественно, Декарт не был атеистом, а верил в Бога. Чтобы понять, в какого Бога верил французский философ, необходимо обратиться к идее выделению двух миров в философии Декарта и Канта: мир причинно-следственных связей (феномены, эмпирическая данность) и мир свободной воли (ноумены, абстрактная данность). Соответственно, и Бог Декарта являет себя в двух разных образах в двух разных мира: в мире причинноследственных связей как Природу, первопричину мира, в мире свободной воли как
Личность, способную на диалог с человеком. Декарт совмещал оба взгляды в духе кантовского дуализма: два мира – два образа Бога.
Однако, как представляется, такая трактовка может противоречить католическим взглядам Декарта. Если в Боге тождественны сущность и существование, то Природа – это Бог и Личность – это Бог. Но Природа не может являться Богом, Бог может быть лишь ее первопричиной, тогда сущность и существование в Боге не тождественны. Бог-Природа пребывает во времени как свое же творение или через творение. Но Бог бесконечен и пребывает в вечности. Следовательно, res cogitans не может созерцать Бога во времени, но, однако же, созерцает. В таком случае, возможно прав св. епископ Г. Палама, утверждавший разделение на сущность и энергию в Боге (Бог и Божество). Другой вариант, субъект созерцает пантеистически понятого Бога, т.е. субъект созерцает законы мира и сам мир. Однако это невозможно, потому что Декарт, во-первых, доказывает существование Бога с помощью онтологического аргумента, во-вторых, субъект созерцает Бога, исходя из бытия (в его достоверности), иначе субъект и Бог имели бы различный онтологический статус, и тогда были бы непознаваемы друг для друга («подобное познается подобным»). (Существует и третий вариант: трактовать Бога как идеальное, создаваемое в трудовой деятельности в общественном сознании. Но об этом ниже.)
Другое противоречие картезианства – это переход от эмпирического к абстрактному субъекту и обратно. Методология Декарта позволяет доказать возможность существования Я и абстрактного (всеобщего) субъекта, но невозможен обратный переход: эмпирический субъект феноменален, а не ноуменальным. Проще говоря, Декарт позволяет видеть, что деревья – это лес, но не позволяет видеть, что лес – это деревья. Диалектика Гегеля позволяет совершать переход в обе стороны: таковы свойства триады единичное-особенное-всеобщее. Но данное противоречие – это не только противоречие эмпирического (единичного) и всеобщего (абстрактного), но и противостояние внутреннего и внешнего. Исследование данного противоречия позволяет обозначить проблему личности в картезианстве (см. ниже).
Я, личность и сознание в картезианстве
Декарт разделял Бога и мир: актуально бесконечный Абсолют и потенциально бесконечный мир. Пространство и время – характеристики мира, следовательно, res cogitas et res extensa пребывают именно здесь. Но субъект французского философа способен созерцать Бога и только Бога: когда с помощью сомнения мышление доходит до Я и самого себя, оно устанавливает реальность своего бытия, отсюда и осуществляется прорыв к Богу, бытие Которого Декарт доказывал с помощью онтологического аргумента.
Конечно, логично считать исходя из того, что время и мышление изменяются, движутся, что мышление может пребывать отдельно от тела и от всего пространственного, что показывал Декарт в мысленном эксперименте. Естественно, что ничего, кроме времени как вместилища для мысли, не остается, если считать, что мышление постоянно изменяется. Однако в таком заключении можно обнаружить некоторые нестыковки. Конечно, с позиции верующего человека можно представить мышление отдельно от тела, пусть такое и невозможно с позиций материализма и физикализма, но это не главное обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание. Главная нестыковка – это попытка познать внешнее через внутренне, используя метод сомнения. Находясь во времени, мышление познает не внутренне, а внешнее внешними средствами, ведь протяженность принадлежит вещам объективно.
Кант и Гуссерль откровенно говорили о том, что познают внутреннее: либо получают знание a priori с помощью разума, либо изучают феноменальный опыт чистого Я. Логично поступил и Гегель, когда утверждал, что внутренне равно внешнему. Внешнее познается через внутренне самопознание, потому что Мировой Дух ведет историю и всех людей, которые лишь орудия в его руках. Гегель отождествил внутренне и внешнее, приведя их к диалектическому синтезу.
Помещение же мышления во время менее логично. Во-первых, Декарт не утверждал тождество внутреннего и внешнего. Во-вторых, он постигал объективное время через субъективный опыт. В-третьих, отождествил бытие в сознании, мышлении (бытие мышления, сознания) с бытием мира. Данная ситуация – логическое противоречие. Декарт пытался разрешить сложившуюся ситуацию путем введения в рассуждение деистического Бога, наличие которого обеспечивает достоверность познания. Хорошо, Бог обеспечивает возможность достоверности познания. Если Бог обеспечивает достоверность познания как обязательность , то с христианской точки зрения он больше не благой, потому что отнимает у человека свободу воли. Зло, опять же с христианской точки зрения, возможно благодаря наличию свободы воли, противлению Божией воли, недостатку добра. В этом смысле Декарт ошибся, и возможно было бы искажение качества рационального познания Бога, но Бог при этом остался бы благим.
Действительно, прямолинейное помещение мышление во время не раскрывает всей сути декартовской философии. В данном аспекте вполне целесообразно прочтение Декарта через Канта. Итак, во-первых, с точки зрения французского философа мышление имеет два модуса – восприятие разума и действие воли [2, с. 465], во-вторых, замечание о том, что необходимо привлекать к исследованию чувства, паять и интеллект [3, с. 71], в-третьих, человек способен, воображать, помнить, волить, разуметь (к такому выводу можно прийти, если рассматривать сочинения Декарта), и в-четвертых, Бог способен только разуметь и волить [2, с. 322]. Кроме того, для суждения требуются разум и воля, и область действия воли шире, чем область действия разума [2, с. 328].
Мышление и творческое мышление не тождественны воображению, во-первых, потому что помыслить то чего нет нельзя, а вообразить можно, во-вторых, потому что электронное устройство может воображать, но не обладает творческим мышлением. Компьютеры сегодня умеют писать стихи и картины, но они используют комбинацию готовых образцов, не допуская новаторства. Человек же мыслит иначе. Как убедительно показал Р. Пенроуз, человеческое понимание и компьютерное вычисление различаются: человек всегда сокращает вычисления , а машина на это не способна. Кроме того, человеку доступно озарение, понимание какого-либо феномена без каких-либо логичных на то причин [10, с. 27338].
Естественно, такое прочтение философии Декарта на первый взгляд кажется неаутентичным его текстам. Но, во-первых, данное прочтение упорядочивает все контекстные прочтения картезианством способностей мышления человека и его модусов. Во-вторых, позволяет четко и однозначно различить способности мышления человека, присущие от природы душе, и способности, которыми пользуется человек в связи с единством души и тела. В-третьих, прочтение всегда ситуативно, поэтому для других целей Декарта можно прочитать и иначе. Данное прочтение необходимо для исследования социального времени, личности, связи человека и общества в контексте философии Декарта.
Гуссерль, изучив платоническую, картезианскую и кантовскую философию, считал, что у человека как субъекта есть несколько различных уровней бытия (например, эмпирический), поэтому у человека также есть и несколько Я. Гуссерль по данному вопросу сделал очень логичное заключение: раз различаются уровни, значит различаются сознания, способы мышления себя самого. У Декарта тоже выделяются различные уровни человеческого бытия. Уровни бытия человека в картезианстве выделяются с помощью метода сомнения, а также по взаимоотношениям души и тела (данное деление – усложнение первого деления).
Декарт дважды рассуждал о Я. В первом случае Декарт отметил следующее: «Ибо если я скажу: «Я вижу...» или «Я хожу, следовательно, я существую» — и буду подразумевать при этом зрение или ходьбу, выполняемую телом, мое заключение не будет вполне достоверным; ведь я могу, как это часто бывает во сне, думать, будто я вижу или хожу, хотя я и не открываю глаз, и не двигаюсь с места, и даже, возможно, думать так в случае, если бы у меня вовсе не было тела. Но если я буду разуметь само чувство или осознание зрения или ходьбы, то, поскольку в этом случае они будут сопряжены с мыслью, коя одна только чувствует или осознает, что она видит или ходит, заключение мое окажется вполне верным» [2, с. 317]. Во втором случае он отметил следующее: «я лишь мыслящая вещь, иначе говоря, я — ум (mens), дух (animus), интеллект, разум (ratio)» [3, с. 24].
Однажды Декарт употребил слово «личина» в своих сочинениях: «Я хорошо понимаю (поскольку я рассматриваю себя как нечто цельное), что был бы совершеннее, чем сейчас, если бы Бог создал меня таким. Однако я не могу отрицать, что в универсуме заложено некое более высокое совершенство, и если некоторые его части не свободны от ошибок и заблуждений, то другие от них свободны — как если бы между всеми частями универсума существовала полная соотнесенность. Но у меня нет никакого права сетовать на то, что Бог пожелал дать мне в мире ту личину, которая не является главнейшей и совершеннейшей» [3, с. 50].
Синонима слова «личина» являются слова «обличье», «личность», «маска», «персона», «харя» [6]. «Личина» – это всегда что-то внешнее, лицо. Исходя из выше приведенной цитаты Декарта, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Я существует прежде личины, личина предназначена Богом для Я. Во-вторых, личина – не самый совершенный способ самовыражения Я. В-третьих, Я существует через личину и в личине. В-четвертых, вполне логично использовать термин «личность», а не «личина», делая лишь оговорку, что Я не является частью личности, но является ее базой, фундаментом, личность – внешняя характеристика человека, образуемая на стыке мышления и тела. Следовательно, личность обеспечивает единство субъекта с телесной и внешней стороны, поэтому выступает экзистенцией человека.
Таким образом, человек-субъект – это всегда триада: Я-душа (эссенция), личность (экзистенция), сознание (субсистенция). Следовательно, феноменальный опыт человек способен получить благодаря наличию у него сознания, деятельность которого вновь ведет к Я, т.к., по логике, за сознанием, сопряженным с Я, всегда следует самосознание. Здесь можно было бы согласиться с Гуссерлем, что у каждого человека несколько Я, ведь, как кажется на первый взгляд, действительно был совершен переход от всеобщего Я к эмпирическому. Но в данном действии не было выхода за пределы идеального и мышления. Душа сильнее всего, по мысли Декарта, дает о себе знать именно в мозге: абстрактное Я прошло через недушевные модусы мышления (личность) и вернулось обратно в себя, в душу.
В данном случае переход из души в мозг был совершен без посредства метода сомнения, поэтому перехода от абстрактного (всеобщего) к эмпирическому Я не было. Да и сомнение по Декарту имеет ограничения: сомнение – научный метод, поэтому в повседневной жизни не имеет смысла сомневаться постоянно, да и разум постигает истину не используя метода сомнения. Сомнение помогает постигать истину лишь рассудочно. Переход от эмпирической данности, которая не подвергается человеческой рефлексии, совершается через чувственное и рассудочное познание, которое и есть сомнение, что в итоге позволяет созерцать идею собственного существования и бытия Бога в своем разуме.
Перейти от бытия вещи мыслящей с помощью сомнения назад к эмпирическому субъекту (человеку) невозможно, т.к. чувственное и рассудочное часто имеют сомнительную достоверность. Возвращение возможно только если не сомневаться. Но после использования метода сомнения субъект (человек) оказывается один на один с Богом, Который гарантирует лишь возможность безошибочного познания. На данном уровне бытия общества нет, человек не одинок лишь из-за возможности общения с Богом. Частью общества может являться лишь эмпирический субъект, декартовская личность. В более поздней (марксистской) философии такую личность получают путем социализации и интериоризации знания, после чего появляются сознание и самосознание. В этом смысле, чтобы оставаться в декартовских терминах и утверждать возможность общения между людьми, придется заключить, что с Богом общаются одушевленные (разумные) существа, а друг с другом – бездушные (рассудочно-чувственные).
Данное обстоятельство подводит к проблеме, поставленной Э.В. Ильенковым: мыслит душа (вещь мыслящая) или тело (тело мыслящее)? В данной связи кажется логичным согласится с советским философов, что мыслит тело, но если подразумевать рассудочночувственное (логическое) мышление, а душа нет, если считать, что деятельность души – это творчество и созерцание объективно существующих идей. В работе «Диалектическая логика» советский философ отметил: «Мыслит не особая душа, вселяемая богом в человеческое тело как во временное жилище (и непосредственно, как учил Декарт, в пространство «шишковидной железы» мозга), а самое тело человека. Мышление – такое же свойство, такой же способ существования тела, как и его протяженность, то есть как его пространственная конфигурация и положение среди других тел» [4].
В пользу такой интерпретации Э. В. Ильенкова говорит и мнение современного российского философа А. Д. Майданского о решении выше означенной проблемы. А. Д. Майданский отметил: «Между прочим, Ильенков-то сам не считал, что мыслит тело. Так утверждали его оппоненты. Это у них тело думает и мечтает, печалится и сомневается, любит и любуется... Ильенков был страшно далек от такого рода соматической философии. В человеке он видел не «мыслящее тело», но «ансамбль общественных отношений» (выражение Маркса: das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse), которые лишь воплощаются в теле и душе особи рода homo» [8].
Схожи образом проблему соотношения души и тела трактовала С. З. Агранович. Она попыталась соотнести современные данные о строении головного мозга с религиозными представлениями о душе и Боге. В этой связи она отметила: «Любопытны аналогии, проводимые Августином между тремя лицами Троицы и тремя способностями человеческой души, … человеческой психики, для нас неразрывно связанной с закономерностями функционирования человеческого мозга. Бог-Отец, безначальное первоначало, а по Августину — память в широком и вечностном смысле этого слова, может быть понят как Вселенная, мир, объект. Бог-Сын — смысловой оформляющий принцип, Слово-Логос, а по Августину разум — исследующая мир мысль человека и человечества. Дух же Святой, животворящий принцип, а по Августину воля — некая медитативная единица, объединяющая первые две, разделяющая их и определяющая их отношения. И если идти дальше, то Бог-Отец — это правое полушарие головного мозга с его независимостью от пространственно-временных координат … Бог-Сын — это левое полушарие головного мозга с его ограниченностью в пространстве и времени … Дух Святой — мозолистое тело с его функцией объединения крайностей двух оппозиций…» [1, с. 143-144].
Трактовка С. З. Агранович схожа с картезианской в случае если считать мыслящей душу, соединенную с самодвижущимся телом через шишковидную железу, или если рассматривать тело человека как мыслящее (в смысле рассудочно-чувственной деятельности), а душу как знающую все заранее собранием идей-архетипов, опять же связанную с мозгом через шишковидную железу. В обоих случаях: роль мозолистого тела отведена шишковидной железе, роль человеческого мозга — левому полушарию, роль души — правому. Только к.филол.н. С. З. Агранович не согласна с тем, что только труд создал homo sapiens, хотя и указывает на то, что он только человеческий вид деятельности. Кроме того, в духе М. М. Бахтина она трактовала труд не только как производство материальных благ, но и как материальное моделирование мира [1, с. 15-73]. Таким образом, трактовка взаимоотношений материального и идеального в бытии предмета-символа близки у С. З. Агранович и у Э. В. Ильенкова.
Рассуждая далее в таком же духе, можно попытаться трактовать Бога с точки зрения представления Э.В. Ильенкова об идеальном. А с его точки не всякая мысль человека идеальна, идеальна только та мысль (идея), которая существует независимо от сознания человека. В широком смысле, конечно, идеален Дух (в смысле гегелевский Дух, интерпретированный материалистически), проявляющий себе в государстве, культуре, общественных отношениях т.д. Итак, советский философ отмечал следующее: «Основной факт, на почве которого выросли классические системы объективного идеализма, – это действительный факт независимости совокупной культуры человечества и форм ее организации от отдельного человека, и более широко — вообще превращение всеобщих продуктов человеческой деятельности (как материальной, так и духовной) в независимую от воли и сознания людей силу. Это «отчуждение» продукта деятельности и самых форм человеческой деятельности приводит к тому, что формы деятельности человека действительно противостоят отдельному лицу и навязываются ему силой внешней необходимости и потому могут представляться как силы и способности некоего сверхиндивидуального субъекта (бога, абсолютного духа, трансцендентального «Я», мирового разума и т.д.). Такое отчуждение лежит, как показал Маркс, в основе и религии, и идеализма. В обеих этих формах общественного сознания человек осознает свои собственные силы и способности, но осознает их под видом сил и способностей некоторого другого, нежели он сам, мистического существа» [5].
По мысли Декарта, в разуме человека содержатся различные идеи, в т.ч. идея Бога, и, как отмечено выше, если трактовать данное положение в кантианском духе, в разуме содержатся априорные категории сознания. То есть с точки зрения Декарта и Канта человек способен знать без рассудочного (на основе логики и опыта) познания, ведь некоторое знание «вложено» в человека еще до его рождения. Такая позиция была близка психоанализу юнгианского толка. В. П. Лега отмечал, что для материализма было открытием, что человек способен не только к рассудочному мышлению, но еще что существует та часть человеческого духа, которую он не осознает — бессознательное. Далее философ отметил, что это было известно философской мысли задолго до «открытия» данного явления в психоанализе [8, c. 394-395].
В этой связи, продолжая логическую цепочку интерпретации Декарта через Э. Канта и Э. В. Ильенкова, можно заключить, что в разуме содержатся архетипы К. Г. Юнга, одним из которых и является Бог. Архетипы человек усваивает в ходе включения в общественные отношения в ходе изучения языка, нравов, традиций и т.д. С точки зрения сегодняшней науки данное положение можно дополнить еще генетической информацией. То есть архетипы человек усваивает «вместе с молоком матери» и «пока ребенок лежит поперек лавки». В таком случае можно было бы утверждать, что коллективное бессознательное — это усвоенное человеком общественное сознание, а индивидуальное бессознательное — преломление его в сознании человека. В этом смысле общественное сознание — сущность, а бессознательное в каждом человеке — энергия. Данная позиция могла бы объяснить неуловимость общественного сознания и объективно существующих общественных отношений, которые всегда убегают от объективного познания, потому что могут быть познаны только через конкретных людей.
Однако юнгианская трактовка блокирует марксистский пафос рассуждений о труде как о деятельности, в результате которой материальное и идеальное переходят друг в друга: идеальное опредмечивается, а предметы труда передают обществу идеальное содержание общественного сознания и общественных отношений. Но, при всем при этом, кантианско-ильенковская и кантианско-ильенковско-юнгианская трактовка картезианства позволяет перейти от единичных эмпирических субъектов-личностей, коммуникация которых не способна вывести из одиночества, к динамическому со-бытийному представлению об обществе.
Социальное время и возможность со-бытия в философии Декарта
Декарт разделил все вещи нашего мира на res cogitans et res extensa, определив, что первая ограничена только в период пребывания в теле и бессмертна, вторая же имеет размерность. При чем, в категорию «протяженность» французский философ Декарт включал не только длину, ширину и глубину, но также и время. В данном вопросе он был весьма современным мыслителем. И это логично, так именно он создал систему взаимно перпендикулярных координат, сегодня именуемых декартовыми. В современной физике время является четвертой координатой, а мир, в котором все существует, именуется пространственно-временным континуумом.
Время для французского философа, таким образом, в отличие от немецкого философа Канта, являлось чем-то объективным, а не субъективным: время является одновременно и одним из параметров протяженности и модусом мышления, т.е. мышление может проявлять себя через время. Декарт специально не рассуждал о времени. Лишь в двух местах о времени он говорил не в смысле обыденного словоупотребления. Во-первых, «таким образом фигура связана с протяжением, движение — с длительностью, или временем, и т. д., потому что невозможно представить себе ни фигуру, лишенную всякого протяжения, ни движение, лишенное всякой длительности» [2, с. 120].
И, во-вторых, «Что такое длительность (duratio) и время (tempus). Одни из тех свойств, кои мы именуем атрибутами или модусами, существуют в самих вещах, другие же — в нашем мышлении. Так, когда мы отличаем время от длительности, взятой в общем смысле этого слова, и называем его числом движения, это лишь модус мышления; ведь мы никоим образом не разумеем в движении иную длительность, нежели в неподвижных вещах» [2, с. 337].
Отсюда видно следующее. Во-первых, Декарт выделял две формы существования времени: длительность и собственно время. Собственно время как число движения – модус мышления, т.е. французский мыслитель показал, что мысли и их содержания у человека меняются в течение его жизни. Протяженность — это как раз время физического мира, которому подвержены все протяженные тела. Во-вторых, хоть Декарт и различал движение и покой как два разных состояния, но это два состояния, в которых только и могут находиться протяженные вещи, детерминированые предзаданными Богом законами, а законы неизменны. В этом смысле движение и покой – это два способа существования таких законов, поэтому с этой точки зрения движение и покой являются одним и тем же состоянием, которое различается по протяженности.
Немаловажно, что для Декарта модус подвержен изменению [2, с. 465], т.е. какая-либо вещь не обязана пребывать все время только в одном модусе, ведь у каждой вещи их может быть много. Из этого следует, что, во-первых, бытие мышления — это необязательно бытие мышления во времени. И во-вторых, таким образом, движением и покой — это два способа (по сути, модуса) пребывания протяженных вещей во времени, их временн о е протяжение. И также два способа (по сути, модуса) проявления предзаданных Богом законов во времени.
Поэтому мышление может не всегда проявлять себя через время, а вещь, даже неподвижная, должна иметь четвертую декартову координату — время.
Декартовское понимание времени (с учетом обыденного словоупотребления) можно сравнить с августиновским. Августин говорил о прошлом, настоящем и будущем, о вечном настоящем и о том, что не может до конца понять феномен времени. Французский философ не стал рассуждать о времени много, лишь показал, что время связано с протяжением вещи и ее движением (покоем). Слова «прошлое», «настоящее» и что-то подобное «его время» (по отношению к какому-либо известному человеку) он употреблял довольно часто в своих текстах: последняя фраза противопоставляется первой, тем самым обеспечивая августиновскую интенцию превращения прошлого-настоящего-будущего в вечное настоящее, существующее объективно, которое, однако, может быть отрефлексировано мышлением. Такое совпадение весьма логично, ведь оба мыслителя связывали бытие и мышление.
Если обращаться к физике, то декартово понимание времени мало походило на понимание отношений пространства и время Ньютоном или Эйнштейном. В этом связи необходимо не преувеличивать современности Декарта. Да, Декарт воспринимал время практически как протяженность, и да время как длительность можно разместить в декартовых координатах, но современным пространственно-временным континуумом оно не станет. Интересным кажется было бы провести аналогию с представлением Р. Пенроуза пространства-времени Галилея. Галилеево пространство-время — модификация пространства-времени физики Аристотеля, в которой оно было представлено произведением одномерного времени на трехмерное пространство. В физике Аристотеля, стало быть, пространства и время соединялись как покадровый хронометраж в кинопленке. Пространство-время Галилея — это уже не произведение, а расслоение (одномерное время — базис, трехмерное пространство — слой). Расслоение, собранное вместе, представляет собой связанное целое, хотя не идентифицируется по точкам [9, с. 334]. Возможность такого сравнения неслучайна, ведь Декарт был поклонником физики Галилея [2, с. 3-76].
В чистом виде в картезианстве можно перейти к только без со-бытийному социальному времени, которое в этой связи статично, а не динамично. Структурно социальное время по Декарту состоит из законов физического мира, определяющих физическое время (длительность); индивидуального время (априорное время в разуме, а также рассудочночувственное эмпирическое представление о времени); представления, характерные для общества в тот или иной период времени, не прошедшие проверку научным методом — сомнением (DasMan хайдеггерианства и гиперреальность постмодернизма). Люди в данном случае коммуницируют только через третий элемент, а первые два во многом косвенно на него влияют. В реальности встречаются только эмпирические субъекты, а не всеобщие.
Конечно, если бы было возможно добавить в данную схему труд и другие виды деятельности, то, безусловно, взаимодействие личностей (эмпирических субъектов) носило бы характер со-бытия. Однако, не смотря на невозможность прибавить к картезианству труд, даже если считать мышление трудовой деятельностью, в картезианстве со-бытийна встреча материального и идеального в человеке, человека и Бога, конечного и бесконечного.
Хотя всегда остается возможность трактовать Бога Декарта именно как христианского Бога-личность. В таком случае, во-первых, социальное время и личность, участвующая в нем, сохраняются, во-вторых, изменяется источник получения врожденных идей-архетипов (не общество и генетика, а Бог), посему врожденные идеи являются a priori истинными, а потенциальное бессознательное как явление исчезает, оставляя место лишь разуму и сознанию. В этом смысле предложенная выше трактовка Декарта через Канта, Ильенкова и
Юнга с точки зрения мышления существенно ничего не меняет, но, в принципиальном плане, делает из Декарта-дуалиста Декарта-материалиста.
Но, опять же, если считать человека мыслящим телом в вышеозначенном смысле (душа — разум, мыслящее тело – рассудок и чувство), то необязательно, что Декарт-дуалист станет Декартом-материалистом. Использование данного концепта лишь подчеркивает, что логика и опыт присущи познанию с помощью тела, а прирожденное познание – душе. Более того, использование концепта мыслящее тело применительно к картезианству позволяет в духе Э.В. Ильенкова акцентировать внимание на том, что идеальное может быть двух разных видов. Во-первых, идеальны душа и Бог, как, собственно, показал сам Декарт. Во-вторых, идеальны мысли человека, возникающие как результат коллективной деятельности людей в познании и труде. Собственно, как и отмечено выше, познавательная деятельность эмпирических субъектов (личностей) — единственное, что их связывает, порождая со-бытие, не оставляя их одинокими.
Заключение
Во многом, такая неоднозначность взглядов Декарта продиктована его во многом аристотелианскими взглядами, усвоенными им из католической веры и обыденного словоупотребления. Аристотелевская философия со времен Фомы Аквинского была привычна и обыденна для Запада. Таким путем Декарт впитал в себя взгляд и об отношениях сущности и энергии, в его терминах — сущности и существования. Из-за отождествления сущности и энергии французский философ получил в своей философии по своей глубинной сути имяславский контекст (Имя есть Бог, Бог не есть Имя). Поэтому в философии Декарта трудно найти личность и социальное время, ибо они пребывают в парадоксальном состоянии. Сохраняя тождественность Я на эмпирическом и абстрактном (всеобщем) уровне, Декарт фактически утверждал ряд противоречивых вещей. Например, что эмпирический субъект — это абстрактный (всеобщий) субъект, но абстрактный (всеобщий) субъект не есть эмпирический субъект. Или, что личность – это мыслящая вещь, но мыслящая вещь не есть личность. Не то чтобы с точки зрения Г. Паламы, Бога можно помыслить в отрыве от его существования, просто его существование не тождественно сущности и следует за сущностью онтологически, но не по порядку появления (по порядку появления они одновременны). Таким образом, мысль Паскаля о том, что познает не абстрактный субъект, а конкретная личность не противоречит картезианству: знание истины, идей дано человеку в душе, разуме, а познание, опирающиеся на рассудочно-чувственные категории совершается в личности, мыслящем теле сознающего человека, которое пребывает в социальном времени вместе с другими эмпирическими субъектами.