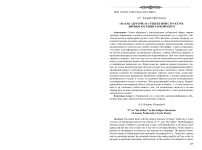"Я" как "другой" в субъектной структуре лирики Арсения Тарковского
Автор: Бокарев Алексей Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья обращена к рассмотрению субъектной сферы лирики Арсения Тарковского в аспекте соотнесенности категорий «я» и «другого». Методологическим ориентиром служит тезис М.М. Бахтина, согласно которому самопредставление человека заведомо неадекватно, и единственной возможностью узнать себя-подлинного является самообъективация, предполагающая позицию вненаходимости относительно любого момента биографии. Анализ показывает, что сюжет идентификации и становления личности в поэзии А. Тарковского можно считать центральным: несовпадение субъекта с самим собой (как правило, в прошлом) фиксируется последовательно и разнообразно. При этом герой нередко увиден со стороны - как «он» или «ты», а детство осмысляется им как идеальный модус существования, момент абсолютной самотождественности и максимального напряжения творческих сил. Взросление же, чреватое самоотчуждением, требует не только беспристрастного взгляда на себя, но и целенаправленной работы, призванной вернуть утраченное активно-деятельное отношение к жизни. Непременным условием его возвращения (которое, впрочем, может быть только временным) выступает разрешение внутренних конфликтов, а именно преодоление разобщенности «души» и «тела»: их единение является залогом стиходвижения, а изолированность ведет к «немоте», обессмысливающей любое усилие. Подробный разбор стихотворений «Река Сугаклея уходит в камыш...», «Стань самим собой» и др. позволяет сделать вывод о том, что становление личности в поэзии Тарковского не имеет временных рамок, а его завершение, с точки зрения автора, синонимично смерти.
А. Тарковский, «я» и «другой», самоидентификация, субъектная структура, диалогические отношения в лирике
Короткий адрес: https://sciup.org/149136601
IDR: 149136601 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00016
Текст научной статьи "Я" как "другой" в субъектной структуре лирики Арсения Тарковского
Тезис M.M. Бахтина о том, что «эстетическое событие» совершается «лишь при двух участниках» [Бахтин 2003, 102], а «симпатически сопереживаемая жизнь оформляется не в категории я, а в категории другого» [Бахтин 2003, 155; здесь и далее в цитатах курсив авторов. -А. К], применительно к лирике, кажется, до сих пор не вполне осознан (представление о ее монологическом характере общеизвестно и закреплено вузовскими учебниками [Хализев 2013, 309]). Однако именно в этом роде литературы отношения субъектов - автора и героя - отличаются особенной сложностью: дистанция между ними не просто исторически изменчива, но и нестабильна даже в границах одной художественной системы [Бройтман 2004, 320]. Если принять за точку отсчета диалогическую природу лирики, то категория субъективности, которой оперируют исследователи, должна быть подвергнута ревизии: ее «“уже нельзя... определять через понятие внутреннего”» [Бройтман 2005, 257]. Закономерным в свете сказанного выглядит и функционирование в поэтике модальности такого типа речеве-дения, при котором говорящий смотрит на себя со стороны (как на «ты», «он», неопределенного субъекта, выраженного инфинитивом, состояние или субститут, отделенные от носителя, и т.д.) [Бройтман 1997, 85-86]. Указывая на затрудненность самоидентификации (а нередко - и на тотальное несовпадение протагониста с самим собой), данная субъектная форма во многом определяет «язык переживания» в лирике второй половины XX - начала XXI вв. Поэтические формулы, подобные «прозрениям» И. Анненского («А где-то там мятутся средь огня / Такие ж я, без счета и названья...» [Анненский 1999, 187]) или В. Ходасевича («Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот - это я?» [Ходасевич 1999, 230]), произносятся здесь без аффектации и воспринимаются как естественный и очевидный жизненный факт: «Читаю умный свой дневник / Военный и передвоенный. / Там нет меня. Там мой двойник, / Восторженный и вдохновенный» (Д. Самойлов) [Самойлов 2010, 195].

Стремление субъекта «настигнуть» свое «я» в изменчивом и непредсказуемом жизненном потоке требует, таким образом, не только психоэмоционального усилия, но и специфической «оптики» - взгляда на себя как на «другого» [Бахтин 2003, 97]. Если «самопредставление» человека «сконструировано и не соответствует никакому действительному восприятию» [Бахтин 2003, 116], то единственной возможностью обрести достоверное знание о себе-подлинном становится самообъективация, предполагающая позицию вненаходимости относительно любого момента биографии [Бахтин 2003, 96]. В лирике интересующего нас периода самоот-чуждение «я», те. расщепление его на две внутренне связанных ипостаси, тяготеющие к разным полюсам субъектной структуры - автору и герою, характерно для целого ряда поэтов (И. Бродского, Л. Лосева, А. Кушнера, Б. Кенжеева и т. д.), чьи эстетические установки, впрочем, заметно разнятся. У Арсения Тарковского, о творчестве которого пойдет речь, появление субъектных форм, свидетельствующих о «раздробленности» личности, отличается особенной регулярностью, а рефлексия над ее предпосылками - высокой степенью интенсивности. Рассмотрение системы взаимоотношений «я» - «другой» в его стихах далее и будет нашей главной задачей.
В специальной литературе с героем А. Тарковского связано представление о поэте-демиурге, чей статус «универсального медиатора» [Левки-евская 2004, 341] между прошлым настоящим и будущим позволяет ему занять позицию «посредине мира» [Тарковский 1991-1993,1, 172] и стать соратником «своего народа по созданию словаря национального языка» [Левкиевская 2004, 342]. Сближаясь, благодаря словотворчеству (и творению словом), с множеством культурных, главным образом библейских, персонажей, сам он, однако, лишен абсолютной власти - «распоряжающийся временем и пространством, поэт не волен распоряжаться самим собой» [Чупринин 1983, 77]. Ученые отмечают полиипостасность героя, вызванную принципиальной открытостью чужому сознанию (домашний сверчок [Тарковский 1991-1993,1, 59-60], воин, убитый в сражении на Ка-яле [Тарковский 1991-1993,1, 61-62], переводчик-востоковед [Тарковский 1991-1993, I, 92-93], беженец [Тарковский 1991-1993, I, 105] и т.д. [Фетисова 2016, 281]), а также его способность «претерпевать бесконечные метаморфозы» [Резниченко 2014, 30]. В череде этих «превращений» (и в устойчивом напряженном контакте с «другим») как раз и оформляется авторская субъективность, а сюжет самоидентификации и становления личности в поэзии Тарковского можно считать центральным.
Так, начиная уже с ранних стихотворений ситуация растождествления субъекта с самим собой (как правило, в прошлом) приобретает характер инвариантной - дистанция между разновременными воплощениями «я» фиксируется последовательно и разнообразно. При этом герой нередко увиден со стороны, поэтому специфика его грамматического представления в тексте определяется местоимениями не только первого, но и второго и третьего лица. Вот лишь несколько наиболее репрезентативных примеров:
-
• «Под сердцем травы тяжелеют росинки, / Ребенок идет босиком по тропинке, / Несет землянику в открытой корзинке, / А я на него из окошка смотрю, / Как будто в корзинке несет он зарю» («Под сердцем травы тяжелеют росинки...») [Тарковский 1991-1993,1, 34];
-
• «Вот почему, когда мы умираем, / Оказывается, что ни полслова / Не написали о себе самих, / И то, что прежде нам казалось нами, / Идет по кругу / Спокойно, отчужденно, вне сравнений / И нас уже в себе не заключает» («Дерево Жанны») [Тарковский 1991-1993,1, 79];
-
• «Как дерево с подмытого обрыва, / Разбрызгивая землю над собой, / Обрушивается корнями вверх, / И быстрина перебирает ветви, / Так мой двойник по быстрине иной / Из будущего в прошлое уходит. <...> Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!» («Как дерево с подмытого обрыва...», цикл «После войны») [Тарковский 1991-1993,1, 141].
Перечень подобных контекстов можно было бы с легкостью продолжить, однако и приведенных цитат достаточно, чтобы обнаружить принцип, организующий субъектную сферу стихотворений. Если связь между «я»-в-прошлом и «я»-в-настоящем истончена (отсюда тема двойничества в одном из фрагментов), то любая попытка познать себя «изнутри» (и закрепить полученное знание словесно) заведомо обречена на неудачу. Сравнение человека с падающим деревом и метафоры кругового движения («... идет по кругу...», «...из будущего в прошлое уходит...») удостоверяют не-укорененность героя в бытии, заставляющую мысленно вновь и вновь возвращаться к детству - «нулевому километру» жизни, где исходной гармонии ничто не омрачало. Поэтому мальчик, за которым наблюдает из окна лирический субъект, скорее очередной «двойник», нежели полноценный «другой», а заря в его корзинке, пусть и иллюзорная, интерпретируется как символ начала начал, истока существования. Детство вообще предстает у Тарковского как идеальный жизненный модус, однако исключительность этого времени объясняется не столько любовью близких или обаянием дорогого сердцу предреволюционного быта, сколько ощущением причастности мирозданию, недоступным взрослому. Названным чувством и обусловлен, согласно Тарковскому, истинный облик человека, поэтому на пристальное вглядывание в себя-в-прошлом направлены максимальные усилия.
Характерной попыткой «навести на резкость» является стихотворение «Река Сугаклея уходит в камыш...», герой которого - инкарнация «я» в детстве - также увиден со стороны и помещен в особое, сродни эдеми-ческому пространство. Координаты последнего, как это часто бывает у Тарковского, прирастают символическими, хотя и вполне очевидными смыслами: река с плывущим по ней «корабликом» указывает на неистраченный (и кажущийся неисчерпаемым) запас времени, золотой песок под ногами ребенка - на переживаемое им счастье. Сходную семантику развивают и другие детали: яблоко, по мнению С.А. Манскова, сигнализирует о целостности мира, а стрекоза, типологически родственная бабочке [Таковский 1991-1993,1, 31], осмысляется как знак инобытия, «носитель»
и «переносчик» божественного слова [Мансков 2001, 64] (ср.: «Знал, что в каждой фасетке огромного ока, / В каждой радуге яркострекочущих крыл / Обитает горящее слово пророка, / И Адамову тайну я чудом открыл» [Тарковский 1991-1993, I, 65]). Не менее существенно, что перечисленные предметы, которые исследователь называет «бытийными» [Мансков 2001, 64], локализованы в руках героя: обладание ими приобщает его природе и наделяет творческой властью (см., например, стихотворение «Загадка с разгадкой», где субъект сближается с кузнечиком, культурным «близнецом» упомянутой выше стрекозы [Тарковский 1991-1993, I, 183-184]). Однако обрисованный порядок вещей, казавшийся незыблемым («И все навсегда остается таким...» [Тарковский 1991-1993,1, 31]), внезапно и без видимых причин отменяется - и именно в этой временной точке начинается самоотчуждение героя. Момент перехода от одного состояния мира (и восприятия себя в нем) к другому в лирике Тарковского неоднократно тематизируется, становясь сюжетной основой многих стихотворений и обогащаясь дополнительными подробностями.
Наибольший интерес в подобных текстах представляет как раз их сюжетное решение: если руки рассматривать в качестве «экрана», на который «выводятся» «бытийные предметы», то «уход» их из рук героя должен расцениваться не иначе как утрата творческой способности и обрыв контакта с мирозданием [Мансков 2001, 67]. Признания субъекта в жизненном дискомфорте или ограниченности поэтического дара неизменно сопровождаются упоминанием опустевших, а то и искалеченных рук: «Я руки свои отморозил / На холоде зимнем твоем, / Я душу свою молодую / Убил непосильным трудом» [Тарковский 1991-1993, II, 46]; «Больше сферы подвижной в руке не держу / И ни слова без слова я вам не скажу» [Тарковский 1991-1993, I, 74]. Вернуть же активно-творческое отношение к жизни, т.е. «совпасть» с собой-подлинным хотя бы временно, можно лишь в результате случайного «прозрения» (как в стихотворении «У лесника», где приметы чужого быта стимулируют возникновение «таинственного мира соответствий»: «И кружка, и стол, и скамья / Такие же точно, как в детстве» [Тарковский 1991-1993,1, 187]) или благодаря целенаправленной работе над собой (как в стихотворении «Кузнец», где процесс формирования человека уподоблен ручному (что немаловажно!) труду мастера: «Сам на себе я самого себя / Самим собой ковал - и горн гашу, / А все-таки работой недоволен...» [Тарковский 1991-1993,1, 281]). Наиболее регулярно становление героя идет последним путем и осуществляется как «само-трансценденция», когда «фактическое присутствие “я” в мире» нацелено на «актуализацию им своей виртуальной личности», понимаемой в качестве «экзистенциального предела... индивидуальности» [Тюпа 1998, 123]. Выход за собственные границы в данной системе координат рассматривается двояко: как обретение протагонистом беспристрастного взгляда на себя и как преображение, позволяющее стать своей «лучшей версией».
В стихотворении с программным заглавием «Стань самим собой» говорится о необходимости выбрать «угол зрения», без которого объектив- ное представление о себе невозможно. Подобно Гамлету, мечтающему о предназначении Моисея, человек обречен «играть в прятки <...> с судьбой» до тех пор, пока нужный ракурс не будет найден - но и уготованную роль придется выбрать из «миллиона вероятий» [Тарковский 1991-1993, I, 69]. Ракурс этот должен быть соотнесен с позицией наблюдателя, видящего себя, во-первых, как «другого» («...В одно смешались явь и сны, / Увидишь мир со стороны» [Тарковский 1991-1993, I, 69]), а во-вторых, в ряду «других» - условием самоидентификации является соотнесенность с чужим сознанием (отсюда интерес автора к литературному «портретированию»: в поле зрения субъекта попадают исторические лица, с которыми он себя идентифицирует, - В. Ван Гог, Комитас, О. Мандельштам, А. Пушкин, А. Секки, Г Сковорода и др.). В «Стань самим собой» в качестве такового выступает абстрактный «гений», «пророк», чей творческий путь в итоге отвергается как не соответствующий сущности героя. Склонность к «умалению» «я» (которой у Тарковского сопутствует противоположный посыл - к его «укрупнению») в данном случае ориентирует протагониста на совершенно иной опыт - не «гениальности», а преодоления ограниченности и слабости: «Найдешь и у пророка слово, / Но слово лучше у немого, / И ярче краска у слепца, / Когда отыскан угол зренья / И ты при вспышке озаренья / Собой угадан до конца» [Тарковский 1991-1993,1, 70]. Таким образом, не сверхчеловеческие способности или божественное покровительство, а истинное знание о себе и готовность меняться являются залогом успеха в любом начинании - в том числе и в поэзии.
Желание «пробиться» к подлинному «я» заставляет героя не только вглядываться в прошлое и усиленно трудиться над собой («вывернуться наизнанку» [Тарковский 1991-1993, I, 69] - самое малое, что он может сделать), но и прислушиваться к «запросам» души и тела, обнаруживающих разобщенность. Уже отмечалось, что «деление человеческой природы на внешнюю, тленную, и внутреннюю, бессмертную, части - общее место поэзии Тарковского» [Левкиевская 2004, 342]. Если душа, в соответствии с традиционными представлениями, отвечает за эмоции и творческое начало в человеке («И как ребенок “мама” говорит, / И мечется, и требует покрова, / Так и душа в мешок своих обид / Швыряет, как плотву, живое слово: / За жабры - хвать! и рифмами двоит» [Тарковский 1991-1993,1, 192]), то тело всего лишь ее «тюрьма» [Тарковский 1991-1993,1, 221], истерзанный «подневольный раб» [Тарковский 1991-1993,1, 319], жаждущий жизни вопреки нестерпимой тяжести существования («...И тело хочет жить, и разве это - я?» [Тарковский 1991-1993,1, 319] - вот характерный вопрос, которым задается лирический субъект). Из последней цитаты видно, что тело тяготит душу: в стихотворении «Только грядущее» оно уподобляется номеру гостиницы с минимальными удобствами, полюбить который нельзя, но привыкнуть к которому необходимо [Тарковский 1991-1993, I, 61]. Душе, согласно поэту, «грешно без тела», поскольку их единение является залогом стиходвижения, а изолированность ведет к творческой немоте и обессмысливает любое усилие: «Ни помысла, ни дела, / Ни замысла, ни
строчки» [Тарковский 1991-1993, I, 221]. «Стать самим собой» означает не просто увидеть себя как «другого», но и, руководствуясь обретенным знанием, собрать свою личность воедино - таков рецепт самоопределения и еще одна регулярно повторяющаяся ситуация в лирике Тарковского.
Неслучайно отделение субститутов в субъектной структуре текста характерно для произведений, описывающих кризисные состояния [Левки-евская 2004, 343], а их сюжеты предполагают два варианта развития: окончательное «рассеяние» «я», равносильное смерти («...И уже, наконец, над собою стою, / Отделяю постылую душу мою...» [Тарковский 1991-1993,1, 73]), и его «оцельнение», понимаемое как внутреннее перерождение субъекта (в «Полевом госпитале» возвращение души в тело после тяжелого ранения оборачивается поэтической инициацией - герой получает в распоряжение «словарь царя Давида» [Тарковский 1991-1993, I, 130-131]). Такая «вариативность» свидетельствует о незавершенности происходящей с героем метаморфозы: становление человека в лирике Тарковского не имеет временных рамок, ведь жить, по выражению М.М. Бахтина, значит «ценностно еще предстоять себе, не совпадать со своею наличностью» [Бахтин 2003, 95].
Таким образом, идеализация детства как момента абсолютной самотождественно сти и напряжения творческих сил, ощущение несовпадения с собой-подлинным, приобретенное по мере взросления, иссякание теургических способностей и целенаправленное подавление внутренних конфликтов, препятствующих самоопределению, осознаются как специфические черты протагониста на протяжении более чем пятидесяти лет работы автора в литературе. В качестве постскриптума отметим, что сходная модель субъектной сферы, основанная на видении себя в качестве «другого», востребована и представителями следующих поэтических поколений - прежде всего О. Чухонцевым и С. Гандлевским, сознательно ориентированным на открытия старшего поэта. Выявление генетических и типологических связей их творчества с лирикой А. Тарковского представляется перспективным направлением для дальнейших исследований.
Список литературы "Я" как "другой" в субъектной структуре лирики Арсения Тарковского
- Анненский И.Ф. Лирика. Минск: Харвест, 1999.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 69-263.
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: в 2 т. Т. 2. М.: Academia, 2004.
- Бройтман С.Н. Лирический субъект // Введение в литературоведение. М.: МГУ, 2004. С. 310-322.
- Бройтман С. Н. Русская лирика XIX - начала XX века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М.: РГГУ, 1997.
- Левкиевская Е.Е. Концепт человека в аксиологическом словаре поэзии А.А. Тарковского // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996). М.: Индрик, 2004. С. 340-351.
- Мансков С.А. Предметный мир поэзии А. Тарковского // Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. Гуманитарные науки. 2001. № 1-2. С. 63-69.
- Резниченко Н. «От земли до высокой звезды»: мифопоэтика Арсения Тарковского. Нежин; Киев: издатель Н.М. Лысенко, 2014.
- Самойлов Д.С. Счастье ремесла: избранные стихотворения. М.: Время, 2010.
- Тарковский А.А. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Художественная литература, 1991-1993.
- Тюпа В.И. Постсимволизм: теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара: Самарский муниципальный университет Наяновой, 1998.
- Фетисова Е.Э. Феномен неоакмеизма в творчестве Арс. Тарковского // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 5. С. 278-287.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Academia, 2013.
- Ходасевич В. Лирика. Минск: Харвест, 1999.
- Чупринин С.И. Крупным планом. М.: Советский писатель, 1983.