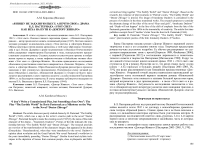"Я пишу не заказную пьесу, а нечто свое": драма Б.Л. Пастернака "Этот свет" как веха на пути к "Доктору Живаго"
Автор: Королева Ангелина Максимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается малоисследованная пьеса Б.Л. Пастернака 1942 г. «Этот свет». Именем главного персонажа драмы - «Иннокентием Дудоровым» - автор предполагал назвать создаваемый роман (1947). Поэтика данного заглавия указывает на взаимосвязь между «Этим светом» и «Доктором Живаго». Образы некоторых героев романа зародились в этой пьесе (Друзякина / Безочередева и др.). Взгляд Дудорова в драме на революцию и Великую Отечественную войну раскрывает мировоззрение Пастернака в годы, непосредственно предшествующие созданию романа. Сходные лексико-стилистические приемы в изображении героев из народа, а также мифопоэтические и библейские мотивы сближают «Этот свет» и «Доктора Живаго». На основе проведенного исследования обосновано существование сюжетных инвариантов в «Записках Патрика», «Этом свете» и «Докторе Живаго». Образ Иннокентия Дудорова рассмотрен в процессе эволюции в трех упомянутых произведениях. Поочередную смену заглавий романа «Мальчики и девочки», «Иннокентий Дудоров» и «Смерти не будет» предлагается рассматривать в свете переноса акцента с судьбы поколения Пастернака 1890-х гг. на бессмертие творчества. В статье впервые публикуются выдержки из письма П.А. Васильева с фронта Б.Л. Пастернаку (1944).
Б.Л. Пастернак, «Доктор Живаго», «Этот свет», «Записки Патрика», сюжетный инвариант, поэтика заглавия, Иннокентий Дудоров, П.А. Васильев
Короткий адрес: https://sciup.org/149136555
IDR: 149136555 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00014
Текст научной статьи "Я пишу не заказную пьесу, а нечто свое": драма Б.Л. Пастернака "Этот свет" как веха на пути к "Доктору Живаго"
Борис Пастернак называл роман «Доктор Живаго» вершиной своего творчества и шел к его созданию многие годы. Творческая предыстория романа изучена достаточно подробно. Ее обычно рассматривают по следующим направлениям: связь с прозой [Борисов 1989, Флейшман 2006], с лирикой [Радионова 2012] и соотношение лирического и повествовательного сюжета в творчестве Пастернака [Магомедова 1990]. В круг задач данной статьи входит анализ военной драмы 1942 г. «Этот свет» как ступени на пути к роману. Несмотря на то, что автор ставил пьесу «в ряд (своих - А.К.) прошлых и будущих вещей» [Пастернак 2003-2005, IX, 319], она редко рассматривается как ближайшая предшественница «Доктора Живаго». Отправной точкой анализа взаимосвязи произведений целесообразно взять возможный вариант названия романа «Иннокентий Дудоров». Писатель хотел вынести в заглавие большой прозы имя героя, который встречается в двух произведениях - в пьесе «Этот свет» и в романе «Доктор Живаго». Актуальность исследования заключается в том, что в обширной научной литературе уделяется мало внимания трагедии, а поэтика автоинтертекстуального заглавия «Иннокентий Дудоров» еще ни разу не рассматривалась.
Творческая история пьесы
Б.Л. Пастернак работал над трагедией на тему Великой Отечественной войны весной и летом 1942 г. по договору с новосибирским драматическим театром «Красный факел». Однако драма так и не была окончена и сдана, а в дальнейшем некоторые картины были уничтожены автором. В распоряжении исследователей имеется лишь рукопись 3-й и 4-й картин первого акта со многими зачеркиваниями и заклейками, часть из которых еще не раскрыта.
На папке с автографом пьесы приклеены записи времен работы над последними частями «Доктора Живаго» [Пастернак 2003-2005, V, 570]:
Для эпилога романа:
1) Чистопольская пьеса III и IV карт<ины> (рассказ о железнод<орожной> сторожке)

2) Письма Васильева к жене
3) Записки в оккупированной полосе (война 41-45)
4) О Зое Космод<емьянской>
Записи нуждаются в небольшом комментарии. Пьеса автором именуется «Чистопольской» по названию города в Татарстане, где он работал над ней в эвакуации. Писатель выделяет «рассказ о железнодорожной сторожке» (монолог Друзякиной), который впоследствии с небольшими изменениями полностью войдет в эпилог романа как история жизни Тани Безочередевой, дочери Лары и Живаго. Иными словами, в 1950-е гг. пьеса буквально стала материалом для эпилога романа.
Далее под пунктом № 2 автор упоминает «Письма Васильева к жене» -«Письма жене с фронта» Петра Афанасьевича Васильева [РГАЛИ. Ф. 379. Оп. 5. Ед. хр. 803], почитателя Бориса Пастернака, погибшего на фронте в 1 944 г. Он воевал в звании гвардии капитана юстиции. Пастернак не был лично знаком с Васильевым; его поразило письмо с фронта, в котором красноармеец рассказывал, что взял с собой на фронт шесть книг и журналов с произведениями Пастернака, но они сгорели во время бомбежки. Он просил поэта прислать ему сборник «На ранних поездах»: «Вот уже около 20 лет стихи Ваши личное и большое в моей жизни <.. .>. Цитаты из Вас в рецензиях на “Час ранних поездов” довели желание обрести сборник до жажды, которую никак не преодолеть и не унять <...> от Ваших стихов станет светлее в землянке и легче среди невероятных холмов - белых, заснеженных...» [Семейный архив Е.Л. Пастернак]. В ответ поэт выслал сборник; переписка оборвалась из-за гибели П.А. Васильева. Пастернак делился с его вдовой, что на фоне всей «переписки письмо Вашего мужа выделилось с ошеломляющей силой» [Пастернак 2003-2005, IX, 394]. В ответ А.И. Васильева передала писателю письма мужа с фронта, сшитые в машинописную тетрадь, во многих из которых упоминалось имя поэта: «С двумя его последними строфами (из стихотворения «Весна» 1944 г. - Л. К.), сразу запомнившимися, я могу прошагать десятки километров по самой трудной дороге, пролежать полчаса под артобстрелом...» [РГАЛИ. Ф. 379. Оп. 5. Ед. хр. 803. Л. 157].
В 3 и 4 пунктах записей Б.Л. Пастернака упоминаются «Записки в оккупированной полосе» и материалы о Зое Космодемьянской. Писатель не раз просил о командировке на фронт, но выехал в расположение Третьей армии, освободившей Орел, лишь в конце лета 1943 г. Во время этой поездки в составе писательской бригады Пастернак собирал материалы о Зое Космодемьянской и вел путевые заметки. На основе этих сведений сложился образ невесты Дудорова Христины Орлецовой. Ее прообраз в «Этом свете» - Груня Фридрих, повторяющая подвиг Космодемьянской (об этом - ниже).
В силу того, что писатель сохранил лишь две картины пьесы, исследователи расходятся во мнениях о причинах, побудивших автора уничтожить некоторые рукописи. В.М. Борисов первым сделал предположение о том, что Борис Пастернак уничтожил записи пьесы по настоянию друзей, пришедших в ужас от ее содержания [Борисов 1989, 417]. Эту гипотезу поддержал Д.Л. Быков [Быков 2018, 605]. Противоположное мнение высказал Б.М. Гаспаров, считавший, что писатель мог уничтожить части драмы «по чисто внутренним творческим причинам» [Гаспаров 2013, 53].
Замысел пьесы о войне просматривается в стихотворении «Старый парк» 1941 г. Его лирический герой задумывает написать военную драму: «Сам же он напишет пьесу, / Вдохновленную войной...» [Пастернак 2003-2005, II, 124]. По наблюдению К.М. Поливанова, «в “Старом парке” сплетаются судьбы и образы потомка декабриста и участника Второй мировой войны, автора будущей пьесы о войне (о написании такой пьесы в это время думает сам Пастернак), и провинциала, приводящего в строй и ясность небывалый ход жизни» [Поливанов 2006, 61]. В пьесе топонимика близка к этому стихотворению - И.И. Дудоров, потомок былой интеллигенции из провинциального города Пущинска, и другие герои «оказываются в чужой усадьбе на краю города» [Пастернак Е.Б. 1997, 575]. Автор, описывая замысел пьесы, отмечал, что действие будет происходить в старинном имении, а главной темой выбрана преемственность культуры [Пастернак Е.Б. 1997, 574].
Говоря о замысле пьесы, естественно обратиться к оценке Б.Л. Пастернаком советской драматургии на военную тему 1940-х гг. Писатель делился со своей первой женой Е.В. Пастернак: «Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержания и выдумки» [Пастернак 2003-2005, IX, 312]. Поэтому драматург «решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое...» [Пастернак 2003-2005, IX, 312]. Такие настроения автора были хорошо известны контрразведке и в спецсообщении 1943 г. они были донесены в следующей форме (слова Пастернака): «Я не люблю так называемой военной литературы, и я не против войны... Я хочу писать, но мне не дают писать того, что я хочу, как я воспринимаю войну» [Б.Л. Пастернак: pro et contra 2012, 924]. Борис Пастернак отторгает современную соцреалистическую драматургию, обращаясь к «новой драме», возникшей на рубеже XIX-XX вв., что подтверждается его желанием «возродить в пьесе забытые традиции Ибсена и Чехова» [Пастернак Е.Б. 1997, 574].
Писатель несколько раз менял название трагедии «Этот свет»: «В советском городе», «Пущинская хроника». В автографе вписано другое название: «Из Чистопольской пьесы» [ОР ИМЛИ. Ф. 120. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 2]. Окончательное заглавие «Этот свет» автор уточняет: «в противоположность “тому”» [Пастернак 2003-2005, IX, 312]. Противопоставление «этого» и «того» света проходит через все творчество Пастернака [см., например, переписку с М. Цветаевой: Пастернак, Цветаева 2004, 164; Цветаева 1990, 392].

Некоторые аспекты драмы в свете последующего перехода к роману
Жанровую принадлежность пьесы автор обозначил как трагедию [Пастернак 2003-2005, IX, 312]. «Этот свет» принадлежит к малораспространенному роду драмы для чтения (нем. Lesedrama). В этом отношении очень показателен монолог Друзякиной из 3-й картины, который занимает 3,5 страницы и является совершенно несценическим [Пастернак 2003-2005, V, 104-107]. К тому же авторская ремарка, открывающая 4-ую картину, характерна именно для драмы для чтения.
Интересно, что драма «Этот свет» близка к прозе, а роман, наоборот, задумывался выражающим «чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении» (курсив Л.К. Чуковской - Л.Х.) [Пастернак 2003-2005, V, 468]. Борис Пастернак на чтении глав из романа пояснял слушателям: «Я думаю, что форма развернутого театра в слове - это не драматургия, а это и есть проза» [Пастернак 2003-2005, V, 468].
В военной пьесе писателя стихи соседствовали с прозой (до нас стихи не дошли); в этом трагедия была первым произведением перед романом, которое одновременно содержало в себе и лирику, и прозу. Драма «Этот свет» воспринималось как «Доктор Живаго» в слиянии этих двух родов.
Борис Пастернак, начиная работу над «Этим светом», вспоминал «Фауста» Гете - одну из самых знаменитых драм для чтения. В письме 1942 г. автор пояснял: «...это российский Фауст, в каком русский Фауст должен содержать в себе Горбунова и Чехова» [Пастернак 1991, IV, 868] (о Горбунове см. далее). Попутно заметим, что переводить «Фауста» И.В. Гете поэт начал в 1948 г. Также Пастернак предполагал назвать роман «Опытом русского Фауста». Возможно, желание Юрия Живаго прожить свою жизнь как драму [Пастернак 2003-2005, IV, 570] связано с поэтикой двух вариантов заглавий («Опыт русского Фауста» и «Иннокентий Дудоров»),
Обратимся к персонажам драмы, чьи образы перешли в роман. Гордон (без имени) и Иннокентий Дудоров впервые появляются в творчестве Пастернака в трагедии «Этот свет». Образу Дудорова будет посвящена следующая часть статьи. Гордон в сохранившихся частях немногословен. Отметим, что в собраниях сочинений в 5 и 11 т. есть разночтения в репликах Дудорова и Гордона. Один монолог, который в пятитомнике произносит Гордон [Пастернак 1991, IV, 526], в 11-томном издании отнесен к Дудорову [Пастернак 2003-2005, V, 114]. В рукописи он отдан Дудорову: «Какие тебе еще достоверности?» [ОР ИМЛИ. Ф. 120. Оп. 5. Ед. хр. 39. Л. 20 об.-21].
Другая героиня, чей образ зародился в пьесе, - Груня Фридрих, «ставшая» Христиной Орлецовой в эпилоге романа про Великую Отечественную войну. Героини драмы и романа повторяют подвиг Зои Космодемьянской. Эволюция образов: Зоя Космодемьянская - Груня Фридрих - Христина Орлецова может быть прочитана как попытка создания христианского житийного канона на базе советской культуры [Мухина 2019].
Приступая к эпилогу романа, автор пометил для себя «рассказ о же- лезнодорожной сторожке» из «Чистопольской пьесы». При рассмотрении трансформации образа «портнихи из беспризорных» в пьесе и романе следует останавливаться не на сходствах и различиях образов Друзякиной и Тани Безочередевой, а на едином сюжетном инварианте. Существование «различных “версий” одного сюжетного инварианта», который является связующим звеном между «никак не соотносимыми друг с другом произведениями» в творчестве Пастернака, впервые выявлено в исследовании Д.М. Магомедовой [Магомедова 1990, 415]. Образ отца Друзякиной учителя Сахарова отсылает сразу к двум произведениям Пастернака: «Запискам Патрика» и «Доктору Живаго». Рассмотрим этот сюжетный инвариант подробнее. В 1936 г. в «Записках Патрика» упоминается муж главной героини Евгении Истоминой:
физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху, ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неустановленном вдовстве, то в нем сомневалась [Пастернак 2003-2005, III, 244].
В 1942 г. в сюжете «Этого света» развертывается похожая картина. Отчим Друзякиной учитель гимназии Сахаров уходит добровольцем на Первую мировую войну, попадает в плен и пропадает на 10 лет. Вернувшись с чужбины, Сахаров не застает «ни жены, ни дома и ничего знакомого кругом», за время его отсутствия мать Друзякиной незаконно в «несчастной любви» родила дочь от скрывающегося белого министра [Пастернак 2003-2005, V, 104].
В «Докторе Живаго» автор вновь возвращается к этой сюжетной линии и раскрывает ее более подробно. Если в «Записках Патрика» упомянутый сюжет только намечен, то в романе он становится одним из центральных. Образы Сахарова и Павла Антипова-Стрельникова имеют сходные черты: уход добровольцем на германскую войну, плен, долгое отсутствие, потеря семьи и уход жены к другому. Образы героев расходятся в главном: Сахаров после возвращения проживает долгую скучную жизнь, а Антипов-Стрельников в революционном порыве устраивает страшный суд на земле и, дойдя до края в желании изменить миропорядок, стреляет в себя.
Итак, на анализе даже одного образа из трех произведений Б.Л. Пастернака, можно сделать вывод о совпадении сюжетных ситуаций повествовательной прозы («Записки Патрика» и «Доктор Живаго») с драматическим произведением («Этот свет»). Это еще раз подтверждает, что писатель на протяжении всего своего творчества в разных формах (лирической, прозаической и драматической) возвращался к одним и тем же версиям сюжетных инвариантов.
Следует обратить внимание на рефлексию героями пьесы и романа над семейными историями Друзякиной и Безочередевой. В драме речь Друзякиной никак не осмысливается персонажами. В романе Гордон и Дудоров, догадавшись о происхождении бельевщицы, подводят итог двадцатипяти-
летию со времен революции: «Задуманное идеально, возвышенно - грубело, овеществлялось. <.. .> Возьми ты это блоковское: “Мы, дети страшных лет России” - и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле <...>. А теперь все переносное стало буквальным, и дети - дети, и страхи страшны...» [Пастернак 2003-2005, IV, 513]. Символично, что роман начинался со строки Блока (заглавие «Мальчики и девочки») и заканчивался его же стихами. Так круг жизни замыкается: «мальчики и девочки» становятся «детьми страшных лет России».
Лексико-стилистические особенности языка пьесы очень примечательны и выделяются на фоне всего предшествующего творчества Бориса Пастернака. Среди рукописей писателя сохранились выписки пословиц, поговорок, метких просторечных слов, диалектизмов, которые он делал в Чистополе: «Чистопольские записи». Они введены в научный оборот ВТ. Смолицким [Смолицкий 1990].
Писатель в «Этом свете» обращается к новой для себя стилистике простонародной речи и сказовой манере. В качестве художественного ориентира автор указывает на сценки И.Ф. Горбунова (Пастернак мог слушать рассказы Горбунова в исполнении В.Ф. Лебедева) и творчество А.П. Чехова. Речь Щукарева, Щукарихи и Друзякиной полна просторечий, присловий, они по незнанию смешно коверкают слова (Гебельс и свастика - «Бе-бельса этого можно купить со всеми хвастиками») [Пастернак 2003-2005, V, 101]. Весь главный монолог Друзякиной выдержан Пастернаком в сказовой манере. Главное отличие в том, что просторечный говор Друзякиной не вызывает комического эффекта сценок Горбунова, ее речь трагически напоминает об одичании России после революции. Такое же впечатление производит просторечный язык дочери Живаго и Лары в эпилоге романа.
В романе «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернак вновь возвращается к языковой стилистике простонародного говора, впервые возникшей в военной пьесе. Образы героев из народа раскрываются автором, главным образом, через язык. Эта художественная попытка воплотить в слове образ простого человека была отрицательно воспринята В.Т. Шаламовым. Он назвал «язык народа» в романе лубком: «грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление...» [Переписка Бориса Пастернака 1990, 545].
«Иннокентий Дудоров» как возможный вариант заглавия «Доктора Живаго»
Изучение поэтики и авторской мотивировки данного названия крайне трудно, в первую очередь, из-за недостатка источников. Мы не располагаем полностью сохранившимися рукописями того периода, свидетельства современников тоже не проливают света на авторскую мысль о заглавии. Самая ранняя рукопись датируется августом 1946 г. - апрелем 1947 г, и она почти целиком повторяет окончательный вариант первых глав романа [машинописная копия - РГАЛИ. Ф. 379. Оп. 6. Ед. хр. 93]. Отличие руко- писи от окончательного текста романа состоит в мелких текстологических правках при нескольких последующих редактированиях книги.
Обозначим известные факты, которые могут прояснить ход авторской мысли вокруг интересующего нас заглавия. Договор с журналом «Новый мир» на написание романа под именем: «Иннокентий Дудоров. (Мальчики и девочки)» был подписан 23 января 1947 г. со сроком сдачи в августе этого же года. К концу 1946 г. были созданы и переписаны набело две первые главы романа: «Пятичасовой скорый» и «Девочка из другого круга». Автор не раз читал их родным и друзьям. Работа над третьей главой книги была завершена в апреле 1947 г.
Все упомянутые факты говорят о том, что Б.Л. Пастернак предполагал назвать создаваемый роман именем героя, который не был поэтом. Образы Н. Дудорова, М. Гордона, Ю. Живаго и Л. Гишар сложились в двух первых главах книги. Авторская мотивировка вынесения в заглавие имени неглавного героя загадочна; тем более, что в последующие месяцы Пастернак в письмах раз за разом увеличивает акцент на образе Юрия Живаго. Первые упоминания главного героя романа (без имени) читаются в письме февраля 1947 г: «стихотворное наследие человека, умирающего между годами смерти Есенина и Маяковского, году в 29-м» [Пастернак 2003-2005, IX, 487]. В другом письме, написанном через 2,5 недели, автор сообщает о стихах Юры: «Юра опять написал у меня несколько стихотворений...» (первое упоминание имени героя) [Пастернак 2003-2005, IX, 491].
В марте 1947 г. писатель в одном из писем наиболее развернуто характеризует Ю.А. Живаго как человека, «который составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским и Есениным, может быть)» [Пастернак 2003-2005, IX, 492]. Переписка тех первых месяцев 1947 г. все дальше и дальше уводит от варианта названия «Иннокентий Дудоров». Автор поглощен размышлениями об одухотворенности творчества и сообщает корреспондентам о стихах героя, которые останутся после его смерти. Вероятно, предполагая назвать роман «Иннокентием Дудоровым», автор смещал первое читательское внимание с поэта на обыкновенного человека из поколения мальчиков и девочек 1890-х гг. Гордон и Дудоров, ровесники и друзья Юрия Живаго, сохранили его архив, обессмертив поэта. Позже писатель, как следует из писем, переносит акцент с «мальчиков и девочек» на творческую личность, которая выделяется среди людей своего круга. Иными словами, взгляд с исторической эпохи перемещается на главного героя, который поднялся над своим временем в бессмертии гениальности. Это может прояснить поочередную смену заглавий: «Мальчики и девочки», «Иннокентий Дудоров» и «Смерти не будет».
Известно, что поэтика Бориса Пастернака отличается сюжетной инвариантностью и переносом образов героев из одних произведений в другие. Иннокентий Дудоров впервые возникает в мире Пастернака в трагедии «Этот свет». Правда, ранее в конце «Записок Патрика» эпизодически мелькает «желчный молодой человек Анемподист Дудоров» [Пастернак 2003-2005, III, 290]. Здесь возможно провести линию: Анемподист Дудо-
ров («Записки Патрика») - Иннокентий Дудоров («Этот свет») - Иннокентий Дудоров («Доктор Живаго») и проследить точки соприкосновения образов героев. На основе краткой характеристики Анемподиста Дудорова, начинающейся со слов: «Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых...» [Пастернак 2003-2005, III, 291], видна близость образа героя к Иннокентию Дудорову в романе. Она заключается в следующих жизненных перипетиях. Дудоров в «Докторе Живаго», потомок княжеского рода, «неустойчивый и взбалмошный ветрогон» участвовал в революционных событиях 1905 г. в Москве и хотел устроить политический побег, из-за которого его исключили из гимназии [Пастернак 2003-2005, IV, 175]. С годами остепенившийся герой отошел от революционного круга, «с запозданием против товарищей... кончил университет» и остался преподавать там историю [Пастернак 2003-2005, IV, 175]. Не раз отмечалось, что Живульт - своеобразный предшественник Живаго, также и Дудоров мог сменить имя с Анемподиста на Иннокентия и обрести вторую жизнь на страницах «Доктора Живаго».
Раскрытие поэтики заглавия «Иннокентий Дудоров» следует начинать с монологов Дудорова в пьесе. В них сконцентрированы те мысли и мотивы, к которым поэт позже вернется в романе. Подробнее остановимся на трех монологах из 4-й картины в порядке их следования в пьесе [Пастернак 2003-2005, V, 114, 115, 117]. В первом монологе Дудоров на войне чувствует, насколько «естественно величие этого небывалого бедствия, это самозабвение народа, у которого опустились руки от той горы мерзостей, которые совершались его именем» [Пастернак 2003-2005, V, 114]. Эту мысль можно продолжить цитатой из романа: «Люди <.. .> вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной» [Пастернак 2003-2005, IV, 503]. Кажется очевидным, что драма была тем произведением, в котором у автора в 1942 г. сложилось свое представление о принятии народом войны. Мысль Пастернака из романа, что страшная война «явилась очистительною бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления» [Пастернак 2003-2005, IV, 503] от сталинского террора, отчетливо звучит в пьесе, где Дудоров с резким неприятием цитирует расхожую фразу Сталина: «жить стало лучше, жить стало веселее» [Пастернак 2003-2005, V, 114]. Позже, в 1955 г, переписывая набело заключительные главы романа, автор помечает для себя, что «политически непривычные резкости <...> не заслуживают упоминания даже полемического» [Пастернак 2003-2005, IV, 652].
В следующем монологе И.И. Дудоров, узнав об отступлении Красной армии и приближении фашистов к городу, в христианском порыве призывает Гордона припасть к земле: «... целуй скорее эту землю. <.. .> Пока она не перешла из одного самозванства в другое. Сейчас, считанные минуты, она - только она сама, только земля нашего удивительного рожденья и детства, только Россия, только наша непосильная гордость, только место нашей революции, давшей миру новую Голгофу и нового бога» [Пастер- нак 2003-2005, V, 115]. Причем, в рукописи «голгофа» написана со строчной буквы [ОР ИМЛИ. Ф. 120. Он. 5. Ед. хр. 39. Л. 21 об.], в собрании сочинений - с заглавной. Речь героя пронизана предчувствием исторических перемен и ощущением неизбежности испытаний. Один из примеров сквозных тем пьесы и романа - переход земли «из одного самозванства в другое». Автор проводит параллель между двумя историческими событиями, потрясшими Россию, - революцией с ее временным безвластием и переходом областей от белых к красным и обратно, и - Отечественной войной, когда оккупированные территории подчинялись «самозванству».
В другом монологе пьесы, начинающемся со слов: «Как это в «Гамлете»? Один я наконец-то. Вот оно, вот оно. Ожиданье всей жизни. И вот оно наступило...», Дудоров делится теми мыслями, которые через несколько лет Пастернак вложит в уста доктора [Пастернак 2003-2005, V, 117]. В этом монологе отчетливо звучит мотив неотвратимости судьбы как театральной драмы из живаговского стихотворения «Гамлет». Начало речи Дудорова взято из первых слов монолога Гамлета после ухода Розенкранца и Гильденстерна (конец II акта) в переводе Пастернака: «Один я. Наконец-то» [Пастернак 2003-2005, CD-ROM РС]. Обратим внимание, что в автографе: «Один я. Наконец то» [ОР ИМЛИ РАН. Ф. 120. Он. 5. Ед. хр. 39. Л. 23 об.], а в собр. соч. в 5 и 11 т: «Один я наконец-то» [Пастернак 2003-2005, V, 117]. На основе опубликованного варианта Б.М. Гаспаров привел ошибочный вывод о том, что Дудоров цитирует «Гамлета» неточно и « “неточность” цитаты вносит важную перемену смысла: в словах Дудорова речь идет о метафизическом одиночестве перед лицом действительности» [Гаспаров 2013, 55].
Заметим, что Дудоров, размышляя, стоит под падающем снегом на краю поля. Образ одиночества и поля вернется в живаговском стихотворении: «Я один, все тонет в фарисействе. / Жизнь прожить - не поле перейти» [Пастернак 2003-2005, IV, 515]. Мифопоэтический мотив соотнесенности снега с миром смерти из драмы не раз встречается в «Докторе Живаго». Снег в обоих произведениях заметает границу между жизнь и смертью. Этот мифопоэтический образ мог прийти из мира А.А. Блока. Тема снегов, которые «замели границу жизни и смерти» звучит в переписке Блока с А. Белым [Белый, Блок 2001, 34]. Однако нельзя не принимать во внимание, что этот мифопоэтический мотив имеет древние корни и встречается и в фольклоре, и в литературе.
В текст рассматриваемого монолога автор вводит цитату из 141 псалма Иоанна Златоуста (воскресная стихира): «Изведи из темницы душу мою исповедаться имени твоему» [Пастернак 2003-2005, V, 117]. Позже весь дух «Доктора Живаго» будет пронизан евангельским мотивом воскресения, звучащем в речи Дудорова. Борис Пастернак был глубоко верующим человеком и досконально знал Священное Писание. По словам З.Н. Пастернак, писатель «заучивал наизусть псалмы и восхищался их высоконравственным содержанием и поэтичностью» [Второе рождение 2010, 346]. В архиве поэта сохранились подборка выписок из церковных служб:
молитв, читающихся на Великие Праздники [ОР ИМЛИ РАН. Ф. 120. Оп. 5. Ед. хр. 35. Л. 189-257]. Также в доме-музее писателя в Переделкино хранится Библия с пометами Пастернака.
В «Этом свете» и в «Докторе Живаго» писатель открыто заговорил о своих религиозных взглядах, размышляя о судьбе послереволюционной России. Такое содержание произведений сделало невозможной их публикацию в идеологических условиях того времени.
Список литературы "Я пишу не заказную пьесу, а нечто свое": драма Б.Л. Пастернака "Этот свет" как веха на пути к "Доктору Живаго"
- Акимова А.С. «Мы в книге рока на одной строке»: шекспировский текст в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 137-141.
- Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903-1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001.
- Б.Л. Пастернак: pro et contra: антология. Т. 1. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2012.
- Борисов В.М. Река, распахнутая настежь: к творческой истории романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» // Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М.: Советский писатель, 1989. С. 409-429.
- Быков Д.Л. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2018. (Жизнь замечательных людей).
- Пастернак Б.Л. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак; Пастернак З.Н. Воспоминания. М.: Дом-музей Бориса Пастернака, 2010.
- Гаспаров Б.М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт). М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- Магомедова Д.М. Соотношение лирического и повествовательного сюжета в творчестве Пастернака // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1990. Т. 49. № 5. С. 414-419.
- Мухина А.А. Зоя Космодемьянская - Груня Фридрих - Христина Орле-цова: трансформация советского мифа в драме и романе Бориса Пастернака // STEPHANOS. 2019. № 5. С. 130-137.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово, 2003-2005.
- Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Художественная литература, 1989-1992.
- Пастернак Б.Л., Цветаева М.И. Души начинают видеть: письма 19221936 гг. М.: Вагриус, 2004.
- Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Биография. M.: Цитадель, 1997.
- Переписка Бориса Пастернака. М.: Художественная литература, 1990.
- Поливанов К.М. «Правнук русских героинь». Дмитрий Самарин в судьбе и творчестве Бориса Пастернака // Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 43-61.
- Радионова А.В. Путь Бориса Пастернака к «Доктору Живаго»: философские и мифопоэтические темы, мотивы, образы. Смоленск: Принт-Экспресс, 2012.
- Смолицкий В.Г. Б. Пастернак - собиратель народных речений // Русская речь. 1990. № 1. С. 23-29.
- Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1990.
- Флейшман Л.С. От «Записок Патрика» к «Доктору Живаго» // Флейш-ман Л.С. От Пушкина к Пастернаку: избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 701-714.