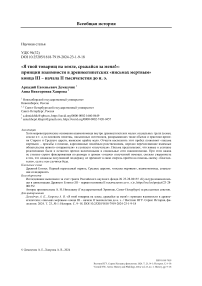«Я твой товарищ на земле, сражайся за меня!»: принцип взаимности в древнеегипетских «письмах мертвым» конца III - начала II тысячелетия до н. э.
Автор: Демидчик А.Е., Хапрова А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Хотя мировоззренческие основания взаимопомощи внутри древнеегипетских малых социальных групп (семья, соседи и т. д.) в основном понятны, письменных источников, раскрывающих такие обычаи и практики времени Старого и Среднего царств, выявлено крайне мало. Отчасти восполнить этот пробел позволяют «письма мертвым» - просьбы о помощи, адресованные покойным родственникам, нередко перечисляющие взаимные обязательства живого «отправителя» и усопшего «получателя». Письма предполагают, что живые и усопшие родственники были и остаются прочно включенными в социальные сети взаимопомощи. При этом важна не столько строго фиксированная по размеру и срокам «отдача» полученной помощи, сколько уверенность в том, что однажды получивший поддержку не преминет в свою очередь прийти на помощь своему «благодетелю», если с тем случится беда.
Древний египет, первый переходный период, среднее царство, «письма мертвым», взаимопомощь, социальная солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/147243538
IDR: 147243538 | УДК: 94(32) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-9-18
Текст научной статьи «Я твой товарищ на земле, сражайся за меня!»: принцип взаимности в древнеегипетских «письмах мертвым» конца III - начала II тысячелетия до н. э.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00155 «Культура взаимопомощи в цивилизации Древнего Египта (III – первая половина II тысячелетия до н. э.)»,
Although the ideological foundation of mutual aid within ancient Egyptian small social groups (family, neighbors, etc.) is mostly clear, very few written sources reveal such customs and practices of the Old and Middle Kingdoms. This gap is to some extent filled by Letters to the Dead – written requests for help addressed to deceased relatives, often mentioning mutual obligations of the living “sender” and the deceased “recipient”. Most “senders” of such letters require the “addressees” to follow the principle of reciprocity, a kind of do ut des : since the living contribute to the well-being of the dead by performing cult actions, the latter must now help the living. The rule of mutual assistance was so strict and pervasive that it transcended the boundary of life and death. The Letters to the Dead imply that deceased relatives remained firmly embedded in social networks of mutual aid. However, the most valued was not a strictly fixed “return” of the once received assistance, but the confidence that the person who received support will not fail to come to the aid of his “benefactor” if trouble happens to the latter. At the same time, the Letters to the Dead show that Egyptians considered it not too petty to refer to their former merits in desperate times: for example, to mention an offering of a bull leg and seven quails in a letter to the deceased parents.
The research was carried out at the expense of the grant from the Russian Science Foundation no. 23-28-00155 “The culture of mutual assistance in the civilization of Ancient Egypt (3rd – first half of the 2nd millennium BC)”,
For several important suggestions, our thanks are due to A. N. Nikolaev (State Hermitage, St. Petersburg).
Взаимопомощь – жизненно важный принцип организации социума, обеспечивающий его сплочение, стабилизацию и выживание. Изучение культуры взаимопомощи в ее цивилизационных, историко-этнографических и этнокультурных проявлениях – одна из главных задач наук о человеке. Особый интерес в этой связи представляют древнеегипетские источники III – начала II тысячелетия до н. э. Наряду с Месопотамией Египет сохранил древнейшие письменные свидетельства по данной теме, и при этом культура взаимопомощи развивалась в Египте в уникальных для ранней древности условиях стабильного территориального государства с необычайно полновластной монархической государственностью, поглотившей крестьянские общины и принудительно регулировавшей большую часть хозяйственной жизни страны 1. Следствием этого стало значительное своеобразие древнеегипетской культуры взаимопомощи, изучение которой дает поучительный сравнительный материал для понимания не только архаических обществ, но и современности.
Хотя мировоззренческие основания взаимопомощи внутри древнеегипетских малых социальных групп – семьи, ближайшего круга родственников, друзей и соседей 2 – в основном раскрыты [Assmann, 1995, S. 58–122], соответствующие обычаи и практики пока изучаются по сравнительно поздним материалам – времени Нового царства (XVI–XI вв. до н. э.) и последующих эпох 3. Применительно к Старому и Среднему царствам выявлять их гораздо сложнее из-за больших пробелов в корпусе письменных источников. Довольно много в них говорится лишь о том, что Я. Ассман назвал «вертикальной солидарностью»: о преданном служении нижестоящих вышестоящим и ответном благоволении последних 4. Практики же «горизонтальной солидарности» в малых социальных группах – в семье, среди родственников друзей и соседей – трудно проследить из-за почти полного отсутствия частной деловой документации 5, писем и т. д. В литературных произведениях Среднего царства, даже когда они подчеркивают пользу взаимопомощи, ее конкретные примеры или обычаи не описываются.
Крайне половинчато раскрывают данную тему кладбищенские жизнеописания и надписи в Пустыне. Стремясь заручиться уважением и благодарностью потомков, владельцы таких надписей перечисляют свои общественно полезные качества и свершения, в том числе применительно к родне, соседям и т. д. Но при этом они всегда изображают себя действующими бескорыстно и безвозмездно, упоминая разве что про заслуженные этим похвалы и любовь. Об ответной поддержке и помощи, полученной в своей «ближайшей» социальной группе, владелец такой надписи обычно умалчивает. В результате, несомненно, существовавшие в таких сообществах правила и практики взаимности , «реципрокности», оказываются скрытыми от исследователей.
Отчасти восполнить эти пробелы позволяют древнеегипетские «письма мертвым» – письменные просьбы о помощи, адресованные египтянами их покойным родственникам. С догматической точки зрения общаться с богами обычно мог лишь персонифицировавший страну фараон и представлявшие его в храмах жрецы, так что индивидуальные обращения египтян к богам до начала Нового царства были крайне редки. Но в особенно тяжелых ситуациях жители долины Нила порой обращались за помощью к усопшим родственникам [Gardiner, Sethe, 1928; Olabarria, 2020, р. 92–93].
Еще в конце Старого царства в Древнем Египте зародилась традиция написания писем умершим родственникам с просьбами о помощи. Как и большинство «обычных» писем, их писали преимущественно скорописью (иератикой), но чаще, чем на папирусе, это делали на керамике – неглубоких округлых чашах, подставках под сосуды, острака (черепках). Иногда письма помещали на небольшие статуэтки, на льняные ткани и даже на обратную сторону известняковой кладбищенской стелы.
Материальный носитель письма мог рассматриваться как своего рода подарок покойному. Частое использование чаш и подставок под них объясняется применением такой керамики в кладбищенском культе, причем для «писем мертвым» обычно выбирали изделия высокого качества. Например, большую ценность представляла собой льняная ткань тонкой работы с самым ранним из «писем мертвым» 6.
«Письма мертвым» сильно различаются по композиции и стилистическим особенностям, но можно выделить их почти непременные структурные элементы. Обычно присутствует адресация (указание на отправителя и получателя), далее идут более или менее пространные приветствие и череда благопожеланий. Затем покойного убеждают, что он обязан и что в его собственных интересах помочь живым родственникам в благодарность за устроенное погребение и поддержание его культа. После этого пишущий излагает свои проблему и просьбу.
На данный момент в качестве «писем мертвым» идентифицированы надписи на 19 предметах 7, еще несколько памятников остаются под вопросом 8. При этом больше половины из них – десять предметов с письмами – относится к сравнительно небольшому промежутку времени конца Старого – начала Среднего царства 9 (XXIII–XX вв. до н. э.). По времени написания и стилистическим особенностям они составляют отдельную группу – «письма мертвым» «древней традиции».
Практика обращений за помощью к усопшим родственникам порождена представлениями о том, что в результате должных похорон и поминальных ритуалов умерший возрождается в «потустороннем» мире, обретая при этом способность общаться с другими его обитателями, в том числе с богами, и может до некоторой степени влиять на судьбы еще живущих родственников.
Заметно, что к давним предкам и родственникам, лишь недавно почившим, египтяне относились по-разному [Harrington, 2013, р. 97]. С последними живые оставались в тесном контакте благодаря еще свежей памяти и поддержанию поминального культа. От давних же предков, с которыми ныне живущие потомки были лично не знакомы, можно было ожидать вредоносных поступков. Злонамеренные умершие были способны причинять различные бедствия – их обвиняли в болезнях, смерти, неурожаях, бесплодии и т. д. За заступничеством обращались к «своим» умершим, чтобы они как-то уняли злопыхателя: «Ведь он рядом с тобой, в одном поселении!» 10.
Несмотря на сложности с установлением точных родственных связей, вызванные спецификой древнеегипетских терминов родства [Franke, 1983, S. 15, 61], очевидно, что за помощью обычно обращаются к ближайшим родственникам: дети пишут отцу и матери; муж – жене и наоборот; мать – сыну и т. д.
В «древней традиции» ходатайства к умершим чаще всего вызваны бедственным положением пишущего и его семьи, по-видимому, наступившим после смерти адресата; другая причина – болезни и бесплодие [Harrington, 2013, р. 147]. Просили защиты и от привидевшихся во сне злодейств. По египетским представлениям, сны были своего рода «пограничной зоной» и каналом связи мира живых с миром умерших. В них живой мог связаться c усопшим родственником-заступником, но, вместе с тем, и злонамеренный мертвец мог воспользоваться уязвимостью человека во сне [Szpakowska, 2003, р. 21]. В «письмах мертвым» «древней традиции» сны фигурируют дважды: на папирусе Нага эд-Дейр 3737 и на оборотной стороне известняковой стелы.
Большинство «отправителей» писем требуют от покойных «адресатов» следовать принципу взаимности, своего рода do ut des : раз живые поддерживают культовыми действиями благополучие усопших, последние должны помочь живым. Прося об услуге, создатель письма обычно напоминает покойному об устроенном для него погребении, исполняемых ритуалах, приносимых жертвах и т. д.
В письме на Берлинской чаше 11 вдовец пишет покойной супруге: « доставили тебя сюда, в Город вечности (т. е. в гробницу на кладбище); тебе не в чем меня упрекнуть! » 12, и просит ее забыть о земных обидах, если таковые остались « в ее сердце ». «Отправитель» писем на чаше Кау 13 по имени Шепси возмущен тем, что его умерший брат будто бы действует против него, хотя Шепси забрал брата из острога (?), принял на себя его долговые обязательства и устроил его похороны. Обращаясь там же к покойным родителям, Шепси напоминает о принесенных для них съестных подношениях: про переднюю ногу быка для отца и семь перепелов для матери.
На оборотной стороне известняковой стелы один из двух «отправителей» письма по имени Мерииртифи обращается к усопшей родственнице Небетит 14 с просьбой исцелить его от болезни и желает, чтобы ему был послан сон, в котором он увидит, как Небетит « сражается за него », прогоняя хворь. Мерииртифи подчеркивает, что исправно поддерживает ее поминальный культ: « я твой товарищ на земле, сражайся за меня, вступайся за мое имя! Не коверкал [ я слов (поминального ритуала) перед ] тобой, я оживил твое имя на земле! » . В случае же исполнения его просьбы Мерииртифи обещает принести усопшей жертвенные дары и установить для нее жертвенный стол, когда взойдет солнце (вероятно, в надежде увидеть такой сон Мерииртифи остался ночевать в часовне на кладбище). В другом послании, сохранившемся лишь частично на той же стеле, некий Хевиау 15 заверяет Небетит: « я не коверкал слов (поминального ритуала) перед тобой, не забирал у тебя подношений… », и далее просит: « сражайся за меня, сражайся за жену мою, за детей моих! ». В письме на Каирской чаше 16 Деди просит усопшего жреца Интефа исцелить больную служанку и отмечает, что она – одна из тех, кто совершает для него жертвенные возлияния. Покойного стращают тем, что иначе его домохозяйство придет упадок 17: « Разве ты хочешь, чтобы твой дом опустел? <…> Разве можешь ты не знать, что именно эта прислужница – та, кто поддерживает твое хозяйство среди (прочих) людей? Сражайся за нее! Присматривай за ней! Защищай ее от всякого человека, что (действует) против нее. Тогда будут твой дом и твои дети в порядке ». Иногда, как в письме на Берлинской чаше, непосредственно в текст послания вставляется жертвенная формула, будто бы обеспечивающая покойного хлебом, пивом, мясом и прочими благами.
В «письмах мертвым» часто подчеркивают важность родственных связей, в том числе и среди самих усопших. В письме на Берлинской чаше вдовец просит покойную жену обратиться за помощью к ее покойному отцу, чтобы вместе с ним помочь домочадцам избавиться от голода и нужды. В Каирском письме на ткани адресата просят встать на защиту живых вместе с другими усопшими родственниками: « Поднимись же против них (т. е. врагов семьи) вместе со своими отцами, вместе со своими братьями, вместе со своими друзьями! ».
«Письма мертвым» перекликаются с некоторыми кладбищенскими надписями этого времени. Особенно интересны послания, оставленные в святилище Хекаиба 18 – крупного чиновника, жившего в конце Старого царства при царе Пепи II и посмертно обожествленного. Его далекий потомок Саренпут I, уже, разумеется, не знавший Хекаиба лично, но ощущавший личную связь со своим предком, обновил и расширил его святилище, в избытке снабдил его продуктовыми жертвами, о чем поведал в нескольких надписях [Habachi, 1985, р. 28–29, fig. 3a]. В качестве благодарности за свои старания Саренпут I рассчитывает на покровительство обожествленного предка и его помощь после собственной смерти.
Рассмотренные материалы в их совокупности позволяют сделать ряд существенных выводов.
Если в кладбищенских жизнеописаниях Старого царства главным основанием благополучия египтянина предстает благосклонность к нему государя, то «письма мертвым» – наряду с жизнеописаниями Первого переходного периода – признают необходимость быть прочно включенным в социальные сети взаимопомощи. Именно это считается вернейшей гарантией выживания индивида, даже лишившегося или не имевшего престижных доходных должностей, а равно во времена смут и голодных лихолетий. Необходимо оказывать помощь нуждающимся в ней, тем самым побуждая их однажды ответить тем же. Появившиеся с Первого переходного периода пословицы утверждали, что для оказывающего помощь она, в конечном счете полезнее, чем даже для ее получателя, ибо « действующий (затем) становится тем, для кого действуют » [Vernus, 1976, р. 144].
Правило взаимопомощи было столь непременным и всеобъемлющим, что преодолевало границу жизни и смерти. Мертвые не могли обрести загробное благополучие без должного погребения и совершаемых живыми культовых действий. Определенно на это указывается в заклинании 38 «Текстов саркофагов», имеющем много общего с «письмами мертвым» [De Buck, 1935; Faulkner, 1973, р. 30–31; Демидчик, 2001]. Живущие, в свою очередь, просили помощи у покойников в тех критических ситуациях, где земные власти (царь, чиновники и др.) были равнодушны или бессильны, а взывать к богам не дозволялось (см. выше). Как поясняется в «Поучении Каирсу», « (добрые) дела полезнее совершающему их, чем тому, для кого совершаются, (ведь) получающий помощь (покойник) защищает пребывающего на земле » [Posener, 1976, р. 49–50, 138–139; Parkinson, 2002, р. 270]. Подобные представления даже породили особую разновидность письменных текстов – так называемых «обращений к живущим», где покойные владельцы кладбищенских памятников «просят» прохожих совершить культовые действия, обещая взамен свою помощь при жизни и особенно на «том свете», заступничество перед богами и помощь на Суде Мертвых [Schubert, 2007; Ilin-Tomich, 2015]. В гробнице чиновника Пахери, жившего уже в эпоху Нового царства, говорится, что « покойный – отец для того, кто действует ради него » и что « он не забудет того, кто совершает для него возлияния » [Lichtheim, 2006, р. 20].
Как отметил Я. Янссен, в III–II тысячелетиях до н. э. для подавляющего большинства египтян возможность получения поддержки в бедственных ситуациях была гораздо важнее стремления к обогащению [Janssen, 1994, р. 136]. Поэтому всякого рода «вспомоществования» крайне редко получали правовое оформление в виде юридически строго фиксированных обязательств (договоров ссуды или займа с обозначенными сроками возврата, ростовщическими процентами и т. п.). Гораздо нужнее была уверенность в том, что «облагодетельствованный» не преминет оказать ответную и соответствующую обстоятельствам помощь, когда с «благодетелем» случится беда. Древнеегипетские практики взаимопомощи, таким образом, основывались главным образом на «неформальных» обязательствах и на чувствах – долга, чести, признательности.
Но вполне надежными, «само собой разумеющимися» такие отношения и чувства могли быть только в малых сообществах 19, особенно между близкими родственниками. Похваляясь в кладбищенских жизнеописаниях помощью «посторонним», поведением далеко не всеобщим и потому заслуживающим поощрения, египтяне редко хвастаются добрыми делами в семействе, ибо это нормально, «заурядно», даже обязательно. В отношениях живых с усопшими казалось само собой разумеющимся, что сын-наследник в меру сил обеспечит погребение и культ усопшего отца 20, а родитель и на том свете будет защищать прежде всего своих детей 21. Вместе с тем «письма мертвым» «древней традиции» показывают, что при всей предполагаемой теплоте родственных чувств и нерушимости взаимных обязательств египтяне считали не лишним мелочно помнить и при случае ссылаться даже на малую когда-то оказанную помощь: например, жертвенную ногу быка и семь перепелов для покойных отца и матери.
Список литературы «Я твой товарищ на земле, сражайся за меня!»: принцип взаимности в древнеегипетских «письмах мертвым» конца III - начала II тысячелетия до н. э.
- Демидчик А. Е. Древнеегипетские отцы и дети в 38 заклинании «Текстов саркофагов» // Кирилло-Мефодиевские чтения: Христианские традиции и культура России: Материалы науч.-практ. конф. (Новосибирск, 24–25 мая 2001 г.). Новосибирск, 2001. С. 13–22.
- Демидчик А. Е. К вопросу о территориальном государстве Древнего Египта // Вестник древней истории. 2010. № 1 (272). С. 3–12.
- Allen J. P. The Heqanakht Papyri // Publications of the Metropolitan Museum of Art: Egyptian Ex-pedition. New York: Metropolitan Museum of Art, 2002. No. 27. P. 107–119.
- Assmann J. Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München: Verlag C. H. Beck, 1995. 322 S.
- Bleiberg E. Loans, Credit and Interest in Ancient Egypt // Debt and Economic Renewal in the An-cient Near East, Bethesda, 2002. P. 257–276.
- Brovarski E. Naga ed-Dêr in the First Intermediate Period. Atlanta: Lockwood Press, 2018. 690 p.
- Buck A. de. The Egyptian Coffin Texts 1: Texts of Spells 1–75 // Oriental Institute Publications. Chicago, 1935. Vol. 34. P. 158–165.
- Donnat S. Gestion in absentia de domaine familial: à propos des lettres aux morts et des documents d’Héqanakht // Et in Ægypto et ad Ægyptum: recueil d’études dédiées à Jean-Claude Grenier. Montpellier, 2012. Vol. 2. P. 227–242.
- Donnat S. B. crire à ses morts: enquête sur un usage rituel de l’écrit dans l’ gypte pharaonique. H . Grenoble: Jér me Millon, 2014. 283 p.
- Eyre C. The Village Economy in Pharaonic Egypt // Agriculture in Egypt: from Pharaonic to Mo- dern Times. Proceedings of British Academy. Oxford, 1999. Vol. 96. P. 33–60.
- Faulkner R. O. The Ancient Egyptian Coffin Texts. Warminster: Aris & Phillips Ltd., 1973. Vol. 1. 299 p.
- Franke D. Altägyptische Verwandschaftsbezeichnungen im Mitteleren Reich. Hamburg: Verlag Borg GmbH, 1983. 400 S.
- Franke D. Das Heiligtum des Heqaib: Geschichte eines Provinzheiligtums im Mittleren Reich // tudien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens. Heidelberg: Heidelberger rientverlag, 1994. Bd. 9. 318 S.
- Franke D. Fürsorge und Patronat in der Ersten Zwischenzeit und im Mittleren Reich // Studien zur Altägyptischen Kultur. 2006. Bd. 34. . 159–185, Tf. 4.
- Gardiner A. H., Sethe K. Egyptian Letters to the Dead, Mainly from the Old and Middle King-doms. London: Egypt Exploration Society, 1928. 56 p.
- Habachi L. Elephantine IV. The Sanctuary of Heqaib. Mainz, Philipp von Zabern, 1985. 226 p., 211 pls.
- Harrington N. Living with the Dead. Ancestors Worship and Motuary Ritual in Ancient Egypt. Oxford: Oxbow Books, 2013. 225 p.
- Ilin-Tomich A. King Seankhibra and the Middle Kingdom Appeal to the Living // The World of Middle Kingdom Egypt (2000–1550 BC). London, 2015. Vol. I. P. 145–169.
- Janssen J. Gift-Giving in Ancient Egypt as an Economic Feature // The Journal of Egyptian Ar-chaeology. 1982. Vol. 68. P. 253–258.
- Janssen J. Debts and Credit in the New Kingdom // The Journal of Egyptian Archaeology. 1994. Vol. 80. P. 129–136.
- Lehner M. Absolutism and Reciprocity in Ancient Egypt // Breakout: The Origins of Civilization. Cambridge, 2000. P. 69–97.
- Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. 2nd ed. Berkeley; London: Uni. of California Press, 2006. Vol. 2: The New Kingdom. 239 p.
- Olabarria L. Kingship and Family in Egypt. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 2020. 279 p.
- Parkinson R. Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. London; New York: Continuum, 2002. 393 p.
- Posener G. L’Enseignement Loyaliste, sagesse egyptienne du Moyen Empire // Centre de echerches d’Histoire et de Philologie de la IVe section de l’EPHE. II: Hautes Etudes Orientales. Genève: Librairie Drost, 1976.
- Schubert S. B. Those Who (Still) Live on Earth. A Study of the Ancient Egyptian Appeal to the Living Texts. A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Toronto: Uni. of Toronto, 2007. 501 p.
- Szpakowska K. Behind Closed Eyes: Dreams and Nightmares in Ancient Egypt. Swansea: Classi-cal Press of Wales, 2003. 237 p.
- Troche J. Letters to the Dead // UCLA Encyclopedia of Egyptology. 2018 (September). P. 4–5. URL: https://escholarship.org/uc/item/6bh8w50t (дата обращения 29.06.2023).
- Vernus P. La formule «le soufflé de la bouche» au Moyen Empire // evue d' gyptologie. 1976. No. 28. P. 139–145.
- Wente E. F. A Misplaced Letter to the Dead // Orientalia Lovaniensia Periodica, in P. Naster (Hg.), Miscellanea in Honorem Josephi Vergote. 1975/1976. No. 6/7. P. 595–600.
- Willems H. The End of eankhenptah’s Household (Letter to the Dead Cairo JDE 25975) // Journal of Near Eastern Studies. 1991. Vol. 50/3. P. 183–191.