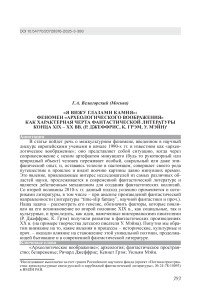«Я вижу глазами камня»: феномен «археологического воображения» как характерная черта фантастической литературы конца XIX – XX вв. (Р. Джеффрис, К. Грэм, У. Мэйн)
Автор: Г.А. Велигорский
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье пойдет речь о межкультурном феномене, введенном в научный дискурс европейскими учеными в начале 1990-х гг. и известном как «археологическое воображение»; оно представляет собой ситуацию, когда через соприкосновение с неким артефактом минувшего (будь то рукотворный или природный объект) человек переживает особый, сакральный или даже эпифанический опыт, и, оставаясь телесно в настоящем, совершает своего рода путешествие в прошлое и видит воочию картины давно минувших времен. Это явление, привлекающее интерес исследователей из самых различных областей науки, прослеживается в современной фантастической литературе и является действенным механизмом для создания фантастических коллизий. Со второй половины 2010-х гг. данный подход успешно применяется и историками литературы, в том числе – при анализе произведений фантастической направленности (литературы “time-slip fantasy”, научной фантастики и проч.). Наша задача – рассмотреть его генезис, обозначить факторы, которые повлияли на его возникновение во второй половине XIX в., как социальные, так и культурные, и проследить, как идеи, намеченные викторианскими писателями (Р. Джеффрис, К. Грэм) получили развитие в фантастических произведениях XX в. (на примере творчества детского писателя У. Мэйна). Попутно мы обратим внимание на то, какие явления и процессы – исторические, культурные и проч. – оказали влияние на становление этой уникальной поэтики, продолжающей бытование и в современной фантастической литературе.
«Археологическое воображение», археология, фантастическое пространство, безвременье, Ричард Джеффрис, Кеннет Грэм, Уильям Мэйн
Короткий адрес: https://sciup.org/149149408
IDR: 149149408 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-393
Текст научной статьи «Я вижу глазами камня»: феномен «археологического воображения» как характерная черта фантастической литературы конца XIX – XX вв. (Р. Джеффрис, К. Грэм, У. Мэйн)
Archaeological imagination; archaeology; fantastic space; timelessness; Richard Jefferies; Kenneth Grahame; William Maine.
На рубеже XX и XXI вв. на волне популярности жанра «путешествие во времени» (time-slip fantasy) внимание исследователей начинает привлекать широко известный и, однако же, удивительный феномен: умение человека совершить временной скачок – не покидая притом материальной действительности; умение создать фантастический мир – не за счет волшебства, особого механизма, чудесного эликсира, портала и т.п., а через приобщение к памяти родной страны и посредством активной работы воображения (imagination). Роль катализатора в этом процессе играет «легенда местности» (Н.П. Анциферов), воплотившаяся в народном фольклоре, в преданиях и поверьях, но прежде всего – в артефактах минувшего: старинных замках и гробницах, замшелых камнях руин, менгирах и дольменах, погребальных курганах и проч. Соприкосновение с такими объектами ведет к особому опыту, результатом которого становится хронологический сдвиг, перемещение реципиента во времени, истончение границы между эпохами или даже, в пределе, наслоение друг на друга различных времен. Для обозначения такого опыта в конце XX в. в британской науке был введен термин «археологическое воображение» (archaeological imagination).
Впервые этот термин встречается в 1991 г. в монографии Майкла Шэнкса «Переживая прошлое: очерк о характере археологии»; там «археологическому воображению» отводится важная роль: оно рассмотрено как « творческое осмысление сегодняшней жизни, возможностей перемен и нововведений, роли индивидуального восприятия, личного подхода, свободы выбора» [Shanks 1991, 17]. М. Шэнкс обращается к различным сферам за пределами археологии как науки, предлагает рассматривать ее как опыт Приключения (Adventure), Туризма (Tourism), Ностальгии (Nostalgia), Детективного расследования (Detective); воображению же отводится роль бессознательного «узнавания», «спонтанного» отклика души на пейзаж (древний курган, акведук, менгир, руины древнего храма и проч.) – и, таким образом, оно предстает особым типом мистического восприятия.
Идеи, сформулированные М. Шэнксом, безусловно, были не новы; схожие мысли высказывал десятилетием ранее французский историк Мишель де Серто в трактате «Изобретение повседневности» (1980). Однако связь этой концепции с археологией, с живой стариной, с национальной идентичностью оказалась особенно актуальна для Великобритании 1990-х гг. – эпохи «усадебного возрождения» и «томления по руинам» (“ruin lust”), когда последние рассматривались как сакральная «вещь в себе», не требующая обновления и реконструкции (см.: [Janowitz 1990, 183–184]).
Монография Шэнкса имела немалый успех, а введенный им термин был воспринят исследователями из разных сфер гуманитарной науки: в их числе – история археологии, история искусств, теория фотографии, политология, социология, феноменология, антропология, урбанистика, психоанализ и, наконец, литературоведение, в том числе и история детской литературы (подробный анализ источников см. в нашей работе: [Велигорский 2024, 387–392]).
В 2017 г. в университете Роухэмптона исследователь Ник Кэмпбелл защитил диссертацию «Детский неоромантизм: археологическое воображение в детском послевоенном фэнтези». В ней ученый рассматривал комплекс произведений детских авторов – романы Шины Портер «Северный брег» (“Nordy Bank”, 1964), «Козел отпущения» (“The Scapegoat”, 1968), «Долина Каррег-Вэн» (“The Valley of Carreg-Wen”, 1971); Уильяма Мэйна «Перелесок» (“Parcel of Trees”, 1963), «Тверди земные» (“Earthfasts”, 1966), «Оно» (“It”, 1977); Джона Гордона «Великан под снегом» (“The Giant under the Snow”, 1968), «Дом над обрывом» (“The House on the Brink”, 1970); Джуди Аллен «Новый золотой век» (“Second Golden Age”), «Родник на горе» (“Spring on the Mountain”, 1973), «Лунные камни» (“The Stones of the Moon”), Кэтрин Фишер «Замок Монсальват» (“Corbenic”, 2002), «Темный обелиск» (“Darkhenge”, 2005), «Корона из желудей» (“Crown of Acorns”, 2010) – и отмечал, что во всех них действует особый род фантастического, «опыт воображения, проистекающий из <...> археологического ви́ дения» [Campbell 2017, 2].
Кэмпбелл стал первым исследователем, высказавшим мысль о том, что в процессе «археологического воображения» в подростковой литературе основную роль играет не исторический артефакт (хотя он, несомненно, важен), но особое детское восприятие, для которого «характерно ощущение прошлого и настоящего как смежных темпоральных пространств» [Campbell 2017, 19]. Здесь ученый отталкивается от целого ряда концепций: во-первых, от трудов шведской исследовательницы М. Николаевой, утверждающей, что в мире детской литературы действует «нелинейное (мифическое) время», или «кайрос», которое она противопоставляет времени «линейному» – «хроносу» [Nikolajeva
2000]; во-вторых, от трудов М. Элиаде, посвященных идее циклического, или сакрального, времени («Миф о вечном возвращении», 1949; «Священное и мирское», 1957); и, в-третьих, от концепций М. Серто и его «онейрической модели» мира, мира-палимпсеста, « все эпохи которого, неповрежденные и одушевляющие друг друга, продолжают жить в одном и том же месте » [Серто 2013, 328]. Для обозначения такого пространства, сочетающего в себе всевозможные времена, Н. Кэмпбелл предлагает употреблять термин “mearcstapa” – по имени земель, из которых в поэме «Беовульф» (VIII в.) появляется чудовищный Грендель (ст. 120–121). Таким образом, весь человеческий мир предстает как своего рода пограничье, смежное и с минувшим, и с будущим, и с волшебным пространством, – при том, что грань между этими временами можно, в физическом смысле, пересечь.
Благодаря диссертации Н. Кэмпбелла теория «археологического воображения» окончательно оформилась и превратилась в действенный инструмент, который в наши дни активно используют исследователи детской литературы (см., например: [Zimmerman 2018]). При этом ни в одном из упомянутых нами трудов не прослеживаются истоки явления: как правило, оно безусловно возводится к творчеству Киплинга или к теории «вторичного воображения» С.Т. Колриджа, а порою и вовсе растворяется в «историческом воображении», никак не отмежевываясь от него (см.: [Mackenzie]). Далее мы попытаемся восполнить эту лакуну, рассмотрев те факторы и явления, которые, на наш взгляд, повлияли на становление данного феномена в середине XIX столетия.
***
Начало викторианской эпохи было отмечено развитием исторической науки и различных смежных с ней дисциплин. Переживала подъем и археология. В 1843 г. было открыто Британское археологическое сообщество, годом позже – Королевский институт археологии; в 1850–1860-х гг. появляются многочисленные журналы и альманахи, печатавшие статьи о новейших открытиях в данной области. Широкий резонанс получают «египетские события»: экспедиция сэра Эндрю Маккулана, обнаружившая потайной проход в храм Абу-Симбела (1874 г.); установка на набережной Виктории копии Иглы Клеопатры – знаменитого александрийского обелиска (1878 г.); открытие Общества исследования Египта (1884 г.) и проч. (см.: [Hawes 2016]).
Еще одним важным фактором в интересующем нас ключе представляется культ Древнего Рима. После спада интереса к эллинизму на закате георги-анской эпохи и в правление Вильгельма IV (1827–1837 гг.) постепенно возрождается интерес к римской культуре, пик которого приходится опять-таки на вторую половину столетия (см.: [Broughall 2015]). Общим местом становится сравнение англичан с «новыми римлянами», что вызывает среди современников немало иронии; «Вот уж, право, не знаю, кто нас так окрестил – уж не сами ли потрудились, спесивые?» [Grahame 1894, 51] – замечал по этому поводу Кеннет Грэм в эссе “Deus Terminus” (1894). Колоссальными тиражами продаются античные сочинения, прежде всего – «Размышления» Марка Аврелия (см.: [Broughall 2015, 86]). В обществе царит восхищение римским стоицизмом, который ложится в основу кода «викторианского джентльмена» (стойкое принятие болезней и бытовых неурядиц, благодарность судьбе, верность долгу, отчизне и проч.) (см.: [Behlman 2000]). В английских школах штудируют «Песни Древнего Рима» (“Lays of Ancient Rome”, 1842) – поэтическую адаптацию античных преданий и легенд, написанную историком Томасом Бабингто- ном Маколеем (1880–1859). Посредством такого знакомства Рим проникает и в детские игры: к примеру, в романе Р. Джеффриса «Бевис, история мальчишки» (“Bevis, a Story of a Boy”, 1882) заглавный герой и его друзья распределяют между собой роли Юлия Цезаря, Марка Аврелия и других полководцев; при этом никто не хочет играть Помпея, которого «непременно побьют» [Jefferies 1881, 238]. Вечный город становится для викторианского ребенка манящей далью, чем-то средним между Волшебным царством и веселой страной Кокейн; эта идея будет обыграна К. Грэмом в рассказе «Дорога в Рим» (“Roman Road”, 1895).
На перекрестке этих поветрий возникает род фантастической литературы, в которой память прошлых лет, тяга к минувшему, мечта о старинной славе и проч. приводят к истончению границы времен, и через нее в наш мир просачиваются картины из прошлого.
Одним из первых авторов, обратившихся к «археологическому воображению» как средству создания фантастических ситуаций, стал писатель-руралист (от англ . Ruralist – «деревенщик») Ричард Джеффрис (1848–1887). Начинавший как журналист, он прославился прежде всего своими очерками, зарисовками из жизни английской деревни, в которых прослеживается интерес к британскому прошлому – в том числе к временам римской экспансии; эта увлеченность отразилась, в частности, в эссе «Римский ручей» (“A Roman Brook”, 1887), где Джеффрис рассуждает о найденном им в камышах близ потока старинном черепе. Наиболее же яркие образцы «археологического воображения» находим в его «духовной автобиографии» «Повесть сердца моего» (“The Story of My Heart”, 1883). История работы над этим текстом восходит к посещению Джеффрисом в 1867 г. руин форта Андерит (деревня Певенси, графство Восточный Суссекс); там автор впервые испытал сакральный опыт, ощутив себя воином железного века: «В тот миг я почувствовал, что стал душой того самого человека, чье тело погребено в кургане (tumulus); я осознавал и ощущал его естество столь же явственно, сколь ощущаю свое» [Jefferies 1883, 33–34].
Знаменательно, что идеи, составившие костяк глубоко личного документа, были обыграны Джеффрисом ранее – в рамках произведения для детей. В 1880 г. писатель публикует роман «Лесное волшебство» (“The Wood Magic”), первую часть дилогии о мальчике Бевисе, уже упоминавшемся ранее в тексте. Большая часть сочинения, нарочито сказочная, посвящена приключениям юного героя в Волшебном лесу; последняя, семнадцатая глава является очевидным приложением, никак не связанным с основным сюжетом, и в ней возникает еще один персонаж – одушевленный ветер.
По сюжету главы, Бевис вместе с отцом отправляется на соседнюю ферму. Во время привала мальчика отпускают поиграть на холме, где виднеются древние руины. Бевис взбирается на холм, какое-то время забавляется тем, что скатывает камни с его вершины, а затем идет на прогулку, видит старинные дольмены (но не понимает, что это такое, и думает, что «тут, вероятно, кто-то тоже играл с камнями» [Jefferies 1881, 257]), и, наконец, истомленный зноем, прикладывается на лесу не зеленом дерне. Здесь он прислушивается к шелесту травы – и слышит голос «старого веселого ветра» (“jolly old wind”). Ветер, говорящий человеческим языком, сообщает, что холм, с которого Бевис только что катал камни, – на самом деле не холм, а древний курган (tumulus), и в нем погребены люди, которые «умерли всего минуту назад, до того, как ты взошел на вершину» [Jefferies 1881, 259]. Бевис демонстрирует недоверие, и ветер поясняет свои слова:
Нет никакого вчера, <...> и завтра тоже никогда не будет. Есть только сегодня. Когда-то этот человек жил – и ты жил тогда тоже; теперь ты пришел – и он тоже по-прежнему здесь. Ты это еще поймешь, когда вырастешь, – если, конечно, продолжить меня вдыхать [Jefferies 1881, 261].
Изложенные здесь идеи созвучны не только теории «археологического воображения», но и нескольким романтическим концептам. Разговор Беви-са с ветром – явное развитие метафоры “correspondent wind” («ответный порыв»; букв.: «ветер-собеседник»), реализуемой многими детскими авторами второй половины XIX в. – к примеру, Дж. Макдоналдом в романе «За северным ветром» (1871) или К. Грэмом в повести «Ветер в ивах» (1908). Идея человека, который похоронен в кургане и в то же время жив, актуализирует, в свою очередь, метафору «жизни-в-смерти» (life-in-death), развитую в поэме С.Т. Колриджа «Сказание о Старом Мореходе» (1797) и в стихотворении У. Вордстворта «Нас семеро» (1798).
Идеи, намеченные Р. Джеффрисом в «Лесном волшебстве», получат развитие в творчестве его внимательного читателя – шотландского автора Кеннета Грэма (1859–1932). Опытом «археологического воображения» – попыткой увидеть древнюю битву, что некогда разразилась на пологих холмах Беркшира – открывается его первая публикация, очерк «У северной борозды» (“By Northern Furrow”, впервые опубликован в “St. James’s Gazette” 26 декабря 1888 г.):
Погляди – там, вдали, на холмах, где гуляет ветер, – зеленеет от века не паханная земля; по этому самому дерну, приминая его стопой, бежали молодые саксонские ратники и звонко ударяли в мечи с супостатом-датчанином, – вон там, у дальнего косогора [Grahame 1983, 75].
Здесь мы явственно видим те же образы, что и у Джеффриса: зеленеющие холмы и курганы, старинный дерн, гуляющий по траве ветер. Эта тема получит развитие в более поздних текстах писателя. В эссе «Песнь о дороге» (“Romance of the Road”, 1892) Грэм пишет о «трактах войны» (martial tracts), по которым «и доныне спешат невидимые полки, призрачная пыль взметается у них под ногами» [Grahame 1894, 3]. Идя по такой дороге и глядя по сторонам, писатель прозревает давно минувшее: «С зеленого пригорка вдали откроется вам иная картина: здесь бушевало сражение, точно бурное море, и волны ударяли в примятые берега <...>» [Grahame 1894, 3]. В деревенской девчушке, пристроившейся на полевой калитке, ему видится праправнучка той маленькой римлянки, что «с заходящимся от волнения сердечком следила, как новобранцы из Уэссекса ринулись навстречу языческим полчищам – как разорвали их ряды и врезались в них, на холме, где шумели в ту пору ясени» [Grahame 1894, 3].
Еще один характерный пример работы «археологического воображения» встречаем в раннем очерке Грэма «Богемец в изгнании» (“Bohemian in Exile”, 1890), в сцене, где рассказчик и его приятель, английский «цыган» Фотергилл, вечеряют под открытым беркширским небом:
Лежа на крутом откосе кургана, одного из тех, где бился в старину Альфред, мы курили, смотрели, не отрываясь, как мерцают в ночной вышине звезды; эти звезды – они сияли и за тысячу лет до нас, многим датчанам, что полегли на этих холмах; и чудилось в тишине, у обезлю- девшей под вечер дороги, кругло огибавшей наш холм, – что прошлое стало ближе, а современная жизнь <...> притихла, убаюканная, в долине Темзы [Grahame 1894, 78].
За счет соприкосновения со старинным курганом, с землей, «помнящей саксонскую поступь», созерцания светивших и тысячу лет назад звезд – герои переживают сакральный опыт, при котором одна эпоха проникает в другою, порождая тем самым уникальное двоемирие.
В своем творчестве Грэм неоднократно обращается к барочному трактату сэра Томаса Брауна «Гидриотафия: погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных урнах, недавно найденных в Норфолке» (“Hydriotaphia, Urn Burial; or, a Discourse of the Sepulchral Urns lately found in Norfolk”, 1658), – тексту, который, по мнению Н. Кэмпбелла, стоит у истоков поэтики «археологического воображения» (см.: [Campbell 2017, 28]). Строки из этого же трактата Грэм предпосылает своей дебютной книге рассказов о детстве – сборнику «Золотая пора» (“The Golden Age”, 1895). В первом же рассказе сборника, «Праздник» (“A Holiday”), описывается разговор маленького героя с «веселым ветром» (чему, опять-таки неспроста, предшествует взаимодействие с почвой: «…раскисшая земля то пружинила, то чавкала под ногами» [Grahame 1895, 17]; «Я хватал комья глины, бросал их ввысь, в небеса» [Grahame 1895, 17] и т.д.). Ветер, которого мальчик берет в провожатые, показывает герою череду картин, постепенно подводя его к различным мыслям: об относительности всего на свете; о ценности жизни и, вместе с тем, ее бренности; о том, что у природы нет «любимых детей»; наконец, о постоянном круговороте смерти и жизни. К последней мысли герой приходит, увидев распластанную на дороге тушку мертвого ежика:
И казалось бы, природа на секунду должна примолкнуть и поплакать по колючему малышу <...>. Но природа и не подумала! Она по-прежнему ликовала и все мурлыкала песенку, где «Казню-не-по-милую» (Life-in-Death) и «Помилую-не-казню» (Death-in-Life) сочетались, как два вечных припева [Grahame 1895, 21–22].
Комплекс рассмотренных нами концепций получит развитие в сочинениях, адресованных юным читателям, в середине XX в. Выше мы приводили перечень авторов, которых упоминает в диссертации Н. Кэмпбелл; здесь мы обратимся, в качестве примера, к одному из них – а именно, английскому писателю Уильяму Мэйну (1928–2010) и его роману «Тверди земные» (“Earthfasts”, 1966) – и проследим, как именно этот автор обыгрывает перечисленные нами выше идеи.
Сюжет романа, на первый взгляд, представляет собой классическую коллизию в духе “time-slip fantasy”. Главные герои, мальчики-подростки Дэвид Уилкс и Кит Хезелтин, во время вечерней прогулки встречают странного вида юношу, выходящего им навстречу из пещеры, открывшейся в толще холма. Юношей этим оказывается Джон Нелли Черри, барабанщик времен королевы Анны, который, отправившись на поиски гробницы короля Артура, «вышел» из нее через двести лет. Пытаясь постичь этот парадокс, герои постепенно приходят к выводу, что причина случившегося – временно́ й разлом, или, по термину Н. Кэмпбелла, «землетрясение во времени» (“earthquake in time”) [Campbell 2017, 165], важную роль в котором сыграли особенности их родного края.
Место действия романа – безымянный городок и окрестные деревушки в вымышленной области Литтондейл (название заимствовано из повести Ч. Кингсли «Дети вод» (1863), в которой этот локус также связан с искаженным, «волшебным» временем). Это край старинных пастбищ, менгиров и дольменов, где постоянно чувствуется связь с минувшим; на древность края указывают многочисленные поэтичные топонимы, которые вводит Мэйн: “Hare Trod” («Заячья тропа»), “High Keld” («Высокий грот»), “Standing Stone Ring” («Круг стоячих камней»), “Jingling Stones” («Звенящие камни») и проч. Аллитерации, в том числе анафорические, на “h” и “s” словно отсылают к поэтике старинных английских поэм, вроде того же «Беовульфа»; недаром для характеристики этой области Н. Кэмпбелл использует термин “mearcstapa” [Campbell 2017, 52].
Одной из характеристик такой необычной области является непривычное течение времени, что Мэйн всячески акцентирует в романе. Время может произвольно менять свою скорость; в главе VI, размышляя о госте из прошлого, Дэвид замечает: «...есть такие края, где время течет то быстрее, то медленнее» [Mayne 1969, 38]. Оно уподобляется живому существу, которое может уснуть (и тем самым застыть) или, наоборот, пробудиться; «…он потревожил спавшее время» [Mayne 1969, 173], – думает Кит, размышляя о том, как барабанщик проник в их реальность. Время может менять и консистенцию; в одной из финальных сцен романа Нелли Черри, пытающийся вернуться домой, бросается в пещеру, однако движется очень медленно, точно борясь с незримым препятствием, и Кит замечает: «... он проталкивается сквозь время» [Mayne 1969, 146].
Встречается в романе Мэйна и образ ветра; однако, в отличие от сочинений Р. Джеффриса и К. Грэма, здесь он не заговаривает с героями, как волшебный наставник, но возникает в рамках сложной метафоры. В ключевом эпизоде романа Дэвид Уилкс, стоя близ мегалита, говорит: «Я вижу глазами камня. Я мыслю его думами, я чувствую вместе с ним все пласты, все слои земли; я просто стою, а мир мчится мимо меня, словно ветер. Ветер – это и есть время» [Mayne 1969, 121]. Ветер, помнящий прежние времена, и сам становится воплощением времени, одухотворяющим живые создания или, напротив, заставляющим мир замирать (возвращаться к текущей секунде): «Но вот время останавливается, и я схожу со своего места, на котором стоял, и вот я вновь человек» [Mayne 1969, 121].
В другом романе У. Мэйна «Там, далеко, за холмами» («Over the Hills and Far Away», 1968), возникает еще один образ, уже знакомый нам по творчеству Грэма – а именно, образ легиона, вечно идущего по английской земле. Сюжет романа строится вокруг истории саксонской девочки Магры, к которой неведомым образом (недосказанность – сознательная черта авторской поэтики) попадает волшебный камень, и посредством него она способна «искажать время». Именно этот камень она использует в главе V для спасения родной деревни, на которую нападают соседи-язычники: повернув камень в пальцах, она смешает временной пласт – и захватчики, уже готовые предать деревню огню, «наскакивают» на марширующих по дороге легионеров и оказываются ими побеждены. Тем самым Мэйн актуализирует еще одну мысль, крайне важную для литературы «археологического воображения» – а именно, что память о корнях оказывается для человека спасительной.
***
Как видим, «археологическое воображение», ложащееся в основу фантастического сюжета, имеет за собой сложный субстрат из социально-культурных явлений: среди них – память прошлого и стремление не утратить ее; бла- годарность былым временам; ощущение своей малости в потоке времени; ответственность за произошедшее на твоей земле; неразрывная связь с истоками. Этот комплекс концепций порождает перспективную модель, которая успешно ложится в основу фантастических произведений XX в. (как нам удалось проследить на примере творчества У. Мэйна). Дальнейшие исследования в этой области могут выявить многочисленные другие связи, и потому они представляются весьма перспективными.