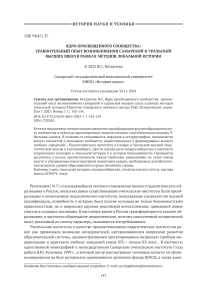Ядро просвещенного сообщества: сравнительный опыт возникновения самарской и уральской высших школ в рамках методов локальной истории
Бесплатный доступ
В статье предложена типологизация процессов трансформации внутри образовательного сообщества в отдельно рассмотренных локусах согласно синтетическому подходу Ч. Фитьяна-Адамса. В отличие от сложившихся подходов в историографии, предлагается анализ личностей и локальных сообществ, задействованных в формировании высших учебных заведений – Педагогического института в Самаре и Уральской высшей педагогической школы в Екатеринбурге. Дается оценка роли микросообщества в контексте современных подходов в локальной истории и в истории повседневности. Приводятся аргументы в пользу преемственности между учебными заведениями на этапе смены власти и утверждения новых программ подготовки кадров, необходимых для обеспечения высокого уровня образованности среди населения страны.
Локальная история, микросообщество, учительские институты, высшая школа, КОМУЧ, локус
Короткий адрес: https://sciup.org/148330692
IDR: 148330692 | УДК: 94(47), 37 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-143-154
Текст научной статьи Ядро просвещенного сообщества: сравнительный опыт возникновения самарской и уральской высших школ в рамках методов локальной истории
Революция 1917 г. стала важнейшим этапом в становлении высшего педагогического образования в России, поскольку ранее существовавшие учительские институты были преобразованы в полноценные педагогические институты, выпускавшие специалистов высшей квалификации, потребность в которых была вполне осознана не только большевистским правительством, но и широкими кругами российской интеллигенции, принявшей живое участие в создании последних. В настоящее время в России трансформируется высшее образование, в частности образование педагогическое, поэтому накопленный исторический опыт, различный по своему характеру, оказывается востребованным.
Учительские институты в качестве предшественников педагогических институтов ранее уже привлекали внимание исследователей, интересовавшихся вопросами развития образовательной системы, административным урегулированием назревших проблем модернизации и адаптации учебных заведений конца XIX – начала XX века1. В частности, единственной монографией о непосредственно Самарском учительском институте стала работа В.Ю. Кузьмина 1999 г., в которой автор рассматривает основные аспекты его функционирования на базе материалов одноименного архивного фонда ЦГАСО, а также выяв-
ляет и сравнивает особенности постановки правового, финансового, учебного и бытового обеспечения учительских институтов в других губерниях. В своем очерке об учебных заведениях Самары и Самарской губернии известный краевед О.С. Струков привел аргументы в пользу организационной и кадровой преемственности между Самарским учительским институтом и педагогическим институтом. А.Н. Колпаков в своем исследовании истории высшего образования в Самаре привлек более широкий круг источников, относящихся к истории учительских институтов, из различных фондов ЦГАСО. Все названные авторы ограничились описанием функционирования учреждений в русле институциональной истории. Отметим, что в современных исследованиях, посвященных методологии истории, предлагаются и иные новые подходы, позволяющие по-новому подойти к изучению проблемы трансформации учительских институтов в высшие учебные заведения педагогического профиля, сделав акцепт на микроуровне на однонаправленной деятельности различных субъектов (авторов), а также провести сравнительно-историческое исследование во многом похожих процессов, синхронно проходивших в различных регионах России революционной эпохи, в частности в Екатеринбурге. Результаты исследований екатеринбургских историков учтены в нашей работе.
Сегодня в неклассической модели исторического знания намечается отход от социально и институционально ориентированного знания и переход от краеведения к региональной истории. Как известно, влияние постмодернизма на историографию выразилось в изменении приоритетов в исследованиях, в акценте на личностную составляющую в истории, который прослеживается в хорошо известных работах представителей Лестерской школы локальной истории (основанной У. Хоскинсом2 и Г. Финбергом). Работая в рамках современной научной парадигмы, мы ставим перед собой цель изучить некоторые аспекты деятельности учительских институтов и первых высших учебных заведений в Поволжье и на Урале в русле методологии новой локальной истории. В отечественной историографии большую работу по адаптации данной методологии проделали Л.П. Репина, С.И. Малович-ко и М.Ф. Румянцева3, выявившие новую проблематику изучения локуса. В нашей работе мы сосредоточимся на изучении характера взаимодействия личностей, сумевших добиться успехов в развитии сферы образования, связывая историю провинциального образования с общегосударственными тенденциями, и устанавливаем преемственность исторических эпох. Пространственно-временными рамками нашего исследования мы обозначили Самарскую и Пермскую губернии в период с конца XIX до начала XX в.
В настоящее время, по словам крупного специалиста по методологии локальной истории Л.П.Репиной, при анализе новых стратегий упомянуто, что «со временем многие сторонники микроисторических стратегий… отказались от понимания микро- и макроподходов как взаимоисключающих»4. Таким образом, можно расширить рамки обзора локального исследования для внимательного рассмотрения исторических акторов, действующих в локальных ситуациях5, а затем увидеть реальные изменения через «микротрансляцию» крупных «структурных явлений»6, выделяя в каждом интересующем нас локусе социально-пространственные структуры различных степеней интеграции, выделяя ядро общины, определяя масштаб общины в каждом отдельном локусе, переходя к группе общин и приводя к единому знаменателю их общую социокультурную характеристику. Согласно синтетическому подходу Ч.Фитьяна-Адамса7, который заключается в конструировании ячейки локальных акторов, имеющий ядро, можно описывать городское общество как упорядоченную совокупность индивидуальностей, взятых в переплетающихся сегментах включающих их социальных групп, а также в динамике индивидуальных жизненных циклов со сменой социальных ролей. Корректное распознавание идентичностей, составляющих эти общины, поможет идентификации множества региональных и локальных сообществ8. В рамках нашего исследования это означает, что деятельность группы лиц (педагогов, представителей интеллигенции, политиков), направленная на трансформацию учительских институтов в институты педагогические, может быть рассмотрена в рамках концепции «ядра». Опыт, имевшийся в Уральском регионе, можно анализировать на макроуровне, сравнивая его с историческим опытом Самарского региона.
На Урале еще в конце 1916 года у учащихся Екатеринбургского учительского института одновременно с воспитанниками аналогичных учебных заведений Уфы и Оренбурга возник запрос на возможность получения высшего образования. Они не раз обращались в Министерство народного просвещения с ходатайством о расширении программы обучения в учительских институтах и предоставлении права поступать в высшие учебные заведения. Обратившись в Государственную Думу, уральцы получили ответ лишь о «включении вопроса о преобразовании учительских институтов в повестку дня заседаний»9. В начале 1917/18 уч. г. воспитанники Екатеринбургского учительского института выдвинули требования о распространении реформы, в том числе о специализации и разделении учащихся второго и третьего курсов, как это было сделано с первокурсниками. Возможно ли рассматривать эти действия как начало формирования ядра общины и ситуативного волеизъявления?
В свою очередь, к Всероссийскому учредительному собранию интеллигенцией, учительством и членами Уральского педагогического союза был разработан проект положения о новом типе педагогического учебного заведения, дающего высшее образование, — Уральской высшей педагогической школе (УВПШ). Она должна была создаваться на базе Екатеринбургского учительского института и стать его правопреемником. С 1 марта 1918 г. было решено занятий в учительском институте не возобновлять, а для выпускников, желающих получить свидетельство об окончании этого учебного заведения, прием зачетов проводить уже силами преподавателей создающейся УВПШ.
Демократические преобразования во многих областях общественной жизни после Февральской революции шли лавинообразно. Важную роль в области образования стали играть представители профессиональных учительских организаций: Всероссийского учительского союза (ВУС), сформированного 7-9 апреля 1917 г. в Петрограде на Всероссийском учительском съезде10, и Уральского педагогического союза (УПС), созданного в Екатеринбурге. В работах по истории возникшего общественного движения в Екатеринбурге отмечается, что в условиях эйфории первых послереволюционных месяцев под флагом демократических реформ в профессиональной учительской организации объединились люди с различными политическими взглядами. Но можно ли говорить о том, что они образовали «общину», в центре которой возникло ядро, направлявшее ее деятельность?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо упомянуть об одной из центральных фигур в этих событиях – Д.А. Киселеве, от решений которого значительно зависели пути дальнейшего развития высшей школы в регионе. В апреле 1917 года Д.А. Киселев стал членом упомянутой учительской профессиональной организации – Уральского педагогического союза (УПС), официально являвшегося «непартийной» организацией. В учительской среде на тот момент возник политический раскол: в мае 1917 г. на съезде УПС слово предоставлялось представителям партий социалистов-революционеров и социал-демократов, и были представлены их программы для ознакомления учителей, то летом-осенью 1917 г. УПС фактически поддерживал программу конституционно-демократической партии. А в связи с активной деятельностью Д.А. Киселева съезд предпринял несколько решительных шагов с целью усиления позиций большевизма11. Получив мандат от партии, Д.А. Киселев возглавил Отдел народного образования при Екатеринбургском совете, а в середине марта 1918 г. эта структура получила название Комиссариата по народному просвещению Екатеринбурга. Под предлогом «демократизации» системы образования в рамках проекта по преобразованию учительского института в высшую педагогическую школу Д.А. Киселев составил особое положение о выборах на учительские должности в учебных заведениях. В определенный момент он сумел организовать местное учительское сообщество – общину, но использовал раскол в ней ради усиления позиций большевиков. Вокруг него сформировалось «ядро» в лице заведующих секциями комиссариата А.А. Герасимова, В.Я. Павловского, М.Е. Кускова, преподавателей Н.П. Младова, Е.В. Бушинского, Е.В. Броноковской, главы Екатеринбургского уездного комиссариата по народному образованию А.И. Парамонова и еще 33 человек. Но оно в силу сложившейся политической обстановки распалось, поскольку в период очередной смены власти в 1919-1920 гг. и с приходом к власти правительства Колчака в конце июля 1918 г. деятельность УВПШ рассматривалась белогвардейцами как большевистский проект, а потому высшее педагогическое учебное заведение планировали создать уже в Перми. Сам Д.А. Киселев, стараясь избежать столкновения с представителями новой власти, уехал из Екатеринбурга, а вернулся в него только в 1920 году, заняв должность инспектора военно-учебных заведений, а затем заведующего педагогическим техникумом. После восстановления советской власти на Урале осенью 1920 г. в Екатеринбурге был открыт Уральский государственный университет (УГУ), и в него перешли из учительского института большинство преподавателей.
Обобщая результаты исследований уральских историков, можно сделать вывод о том, что на Урале «ядро общины», заинтересованной в развитии в сфере образования, нельзя назвать ни однородным (в силу специфики политической обстановки периода революционных событий), ни устойчивым в эпоху анархии и перехода контроля над политической ситуацией от большевиков к антибольшевистскому сопротивлению, а затем в период существования коалиционных органов власти12.
В Самарской губернии, так же как и в Екатеринбурге, сформировался запрос на создание высшего учебного заведения. Одну из наиболее ярких и показательных ролей в нем сыграло Самарское общество поощрения высшего образования 1873-1886 гг.13 Большую просветительскую деятельность вело Самарское общество народных университетов (создано 1 февраля 1908 г.), состоявшее из представителей интеллигенции: преподавателей, врачей, инженеров, художников. Также в Самаре с 1909 г. функционировало Общество содействия открытию высшего учебного заведения. Для скорейшего создания университета в октябре 1916 года на заседании Городской думы было принято постановление уполномочить управу возбудить перед Министерством Народного просвещения (МНП) ходатайство о включении г. Самары в первую очередь городов Российской империи, в которых «предположено в ближайшее время открытие университетов»14.
О формировании общественного запроса на создание полноценного высшего учебного заведения свидетельствует и мнение обучающихся в Самарском учительском институте. Второкурсники, указывая на некоторые сложности в процессе адаптации положений постановления Временного правительства от 14 июня 1917 г., составили письмо в Педагогический Совет учебного заведения, обосновав свои предложения по адаптации программ: «1) дать право каждому из слушателей избрать тот или иной предмет своей специальностью по программе реформированных Учительских институтов, как она проведена во II курсе, с обязательством для нас пройти остальные общеобразовательные предметы за курс средних учебных заведений, не проходя методов преподавания; 2) разрешения держать зачет по специальности в расширенном объеме каждому слушателю, а по остальным предметам за курсы средних учебных заведений». Таким образом, был предложен формат «переходной формы» подготовки будущих учителей, оказавшихся в середине пути в период преобразований и обязанных «усвоить в течение 2-х лет всю массу учебного материала, преподаваемого лекционным способом и в требуемом по новой программе объеме».
Согласно разработанному плану за три учебных года слушатели учительских институтов должны были изучить специальные дисциплины фактически в объеме университетского курса, также работы ведущих российских ученых, получить научно-практическую подготовку и навыки педагогической работы в школе – по специализациям предусматривались практические занятия по методике преподавания профильных дисциплин.
События в Самаре, как и в Екатеринбурге, свидетельствуют о заинтересованности, самостоятельности и готовности самих учащихся к участию в развитии своих учебных заведений. Однако, в отличие от других городов, в Самаре именно просвещенная общественность первой заговорила о необходимости организации высшего учебного заведения еще в 70-х годах XIX столетия, а в январе 1910 года на очередном заседании собрания Губернского земства присутствовавшие согласились, что «потребность в педагогическом институте в Самаре не убывает».
Уже в июне 1917 года Министерство народного просвещения (МНП) Временного правительства разработало и опубликовало законопроект об учреждении женского педагогического института Самарского земства в составе историко-филологического и физико-математического отделений. Но далее разразился июльский кризис, приведший к смене состава в кабинете правительства. Впоследствии, 22 июля, Губернская земская управа получила от МНП телеграмму, сообщающую о его согласии на открытие пединститута при условии получения ассигнований из казны, начиная с 1918 г.15 К реализации проекта вернулись лишь в августе и, рассчитывая на поддержку общественности в Самаре, Временное правительство 22 августа утвердило положение о Самарском пединституте с историко-филологическим и физико-математическим факультетами. Уже в сентябре 1917 г. в Петроград прибыл заместитель председателя Самарской земской управы А.Ф. Валяев и предложил профессорам А.П. Нечаеву и академику В.Н. Перетцу принять участие в организации института и преобразовании его в дальнейшем в университет.
Таким образом, в Самаре учащиеся и общественные деятели, стремившиеся к созданию высшего учебного заведения, получили сильную поддержку со стороны признанных ученых, среди которых оказался профессор А.П. Нечаев. Его связи с Самарой возникли еще в 1909-1910 гг., когда он был сюда приглашен Обществом народных университетов для чтения лекций по педагогической психологии на курсах учителей. Организация таких мероприятий была одной из целей Общества, обозначенных как просвещение широких народных масс, главным образом служащих и учащихся, в области гуманитарных наук путем проведения лекций, литературно-музыкальных вечеров и концертов, а также обеспечение доступа широким народным массам к внешкольному образованию. После успешного опыта по проведению лекционного курса А.П. Нечаева избрали директором Самарского педагогического института. По данным, взятым из отчета о деятельности первого кадрового состава Педагогического Института, можно сделать вывод о многообещающей совместной работе коллектива ученых и преподавателей в нем, среди которых были доктора и магистры наук16. Несмотря на слаженную работу заинтересованных людей из различных социально-общественных структур (земской управы и Общества народных университетов), предстояло провести еще немало подготовительной работы. Трудности организационного и финансового характера были преодолены благодаря поддержке Самарского земского собрания, ассигновавшего 100 000 рублей на открытие и финансирование учебного заведения в первые месяцы работы, что было засвидетельствовано телеграммой министру финансов главой Земской управы, в которой он запрашивал разрешения на открытие пединститута. Дополнительно в Самаре было объявлено о создании Организационной комиссии по открытию пединститута, а спустя несколько дней был утвержден устав вуза, получивший название «В память 19 февраля 1861 г.».
Создаваемый институт принадлежал к разряду высших учебных заведений, имел целью давать слушателям высшее общее и педагогическое образование. Оканчивающие его получали дипломы, дающие те же права, что и дипломы об окончании университетского курса, и сверх того звание учителей и учительниц средних учебных заведений17. 29 октября 1917 г. состоялось открытие Самарского педагогического института, и 6 ноября начались занятия. Во втором полугодии 7 апреля 1918 г. состоялось совместное заседание представителей педагогического института и представителей общественных и государственных организаций и учреждений города, по итогам которого было вынесено единогласное решение, и уже 20 апреля 1918 года появилась резолюция о преобразовании института в университет18.
По окончании 1917/18 учебного года именно А.П. Нечаев вёл подбор кадров для будущего университета, продолжая приглашать ведущих ученых в сфере филологии, истории, физики, математики, медицины, астрономии и других. Частичная кадровая преемственность в составе Историко-филологического факультета между учебными заведениями позволяет говорить и о юридической преемственности между ними. Согласно протоколу №1 заседания факультета от 9 сентября 1918 г., присутствовавшие на нем члены совета и преподаватели «слушали приказ по ведомству Народного просвещения №217 о назначении профессорами, доцентами и преподавателями – профессоров и преподавателей соответствующих наук в бывшем Самарском Педагогическом Институте с зачетом в службу по Университету времени, проведенного на службе в Институте»19.
Тем временем 5 октября 1918 г. на 9-м заседании Государственной комиссии по просвещению Народного комиссариата по просвещению РСФСР постановили преобразовать20 учительские институты в педагогические, придав им статус высших учебных заведений. После восстановления Советской власти в Самаре в ноябре 1918 года Наркомпрос сделал представление в СНК о преобразовании Самарского педагогического института памяти 19 февраля 1861 г. в университет. Это представление легло в основу Декрета СНК РСФСР от 21 января 1919 г. о создании в Самаре государственного университета. В декрете говорилось: «…учредить государственные университеты в городах Костроме, Смоленске, Астрахани и Томске и преобразовать в государственные бывшие <…> и педагогический институт в г. Самаре. Сроком открытия <…> государственных университетов считать день первой годовщины Октябрьской революции – 7 ноября 1918 г.»21.
Однако даже подробное изложение фактов деятельности каждого из учебных заведений города долго не может дать целостного представления о фактическом их функционировании, о том, в каком отношении они находятся друг к другу в вопросах преемственности. Уделяя внимание непосредственно преподавательскому составу, мы смогли разобраться в запутанных взаимоотношениях учебных заведений-предшественников вузов. Сложилось ли в Самаре «микросообщество»? Ответ на этот вопрос дает протокол заседаний с участием профессоров Андриановой, Ливеровской, Никоновой, Фридолина, Перетца, Лурье, Нечаева, Ивановского, но не на Историко-филологическом факультете университета, а на организационных заседаниях педагогического совета Самарского педагогического института от 4 января 1919 года, поскольку окончательное решение об очередном открытии в Самаре педагогического института было принято в самом конце 1918 г., а именно 31 декабря, на заседании малой коллегии Самарского губотдела народного образования22. На первом заседании23 под началом бывшего председателя Педагогического совета Виленского учительского института24 И.С .Пятосина обсуждался вопрос полномочий Педагогического совета, «пока будет продолжаться организационная работа во вновь создаваемом педагогическом институте», а также заслушивался доклад о результатах работы аттестационной комиссии, выяснявшей научно-педагогическую пригодность лиц, выставивших свою кандидатуру на занятие преподавательских должностей в Педагогическом институте. Комиссия состояла в том числе из профессоров Самарского университета: В.Н. Ивановского, Е.И. Тарасова, А.В. Багрия, В.Н. Горинев-ского. И тогда же собрание единогласно постановило пригласить в состав преподавателей Педагогического института следующих профессоров и преподавателей Самарского Университета: Перетца, Адрианову, Фридолина, Щеглову, Ливеровскую, Баранникова и Никонову, иными словами, профессуру Самарского университета, которая с начала учебного года работала в Виленском учительском институте. При ее энергичной поддержке проведена была реформа учебного плана учебного заведения. Упомянутая плодотворная деятельность дает понимание о работе ядра сообщества во благо не только преобразования Самарского института памяти 1861 года в университет, но и в пользу увеличения количества высших учебных заведений города. В одном из следующих заседаний участвовал инструктор из центра по обследованию учебных заведений Л.И. Бирюков, один из членов Комитета Народного Просвещения, присланный из Москвы для ознакомления с положением дела на месте. Дело в том, что в столице возникло определенное непонимание сложности процессов становления высших учебных заведений в Самаре: «в Самаре имеется 2 педагогических учебных заведения (Самарский учительский институт, эвакуированный Виленский учительский институт и Педагогический институт), но в каком отношении они находятся друг к другу и каково их состояние – это в точности не было известно». Но фактически процесс слияния всех трех учебных заведений в одно можно проследить с 25-го октября по 27-е ноября 1918г., если принять во внимание протоколы заседаний Самарского губотдела народного образования.
Следует обратить внимание и на вопрос о преемственности между учительским институтом и педагогическим институтом. Дело в том, что директор учительского института после роспуска воспитанников на весенние каникулы в 1917 г. долго не мог получить официального ответа министерства на свой запрос о дате окончания учебного года, так как, согласно циркуляру МНП об отмене выпускных испытаний в учительских институтах, опубликованному в «Вестнике Временного Правительства №7 (1917)», руководство Самарского учительского института посчитало возможным приостановить занятия 24 марта 1917 г. На момент роспуска учеников на каникулы ответ на запрос директора, следует ли по причине «отмены выпускных испытаний» окончание самого учебного года25, получен не был. Вероятно, на основе этого документа исследователь О.С. Струков заключил, что Самарский педагогический институт был создан в 1917 году на базе Самарского учительского института, приостановившего свою деятельность, но официально не закрытого26. Однако, согласно данным исследования А.Н. Колпакова, в 1918-1919 году в Самарском учительском институте обучалось 45 учащихся, в Виленском – 5527. Решить вопрос о преемственности в развитии учебных заведений можно, как нам представляется, опираясь на данные о движении библиотечных фондов и учебного оборудования. В сентябре 1917 г. ко времени открытия Педагогического института («памяти 1861 года») к его библиотеке присоединили библиотеку Земской школы сельских учительниц28, которая после упразднения школы в 1913 году вплоть до сентября 1917 г. по всей видимости, находилась в учительском институте, поскольку институт не мог функционировать без необходимых изданий29. На заседаниях педагогического совета Самарского педагогического института 1919 г. было ясно прописано в пунктах с 5-го по 8-й30, что «вопрос о библиотеке для Педагогического института – одно из важнейших дел для правильной постановки преподавания», и библиотеки коммерческого училища и бывшего Самарского учительского института перешли в Педагогический институт вместе с помещениями, инвентарем и лабораториями. Годом ранее так же четко и ясно в документах указывается на преемственность «Педагогического института памяти 1861 года» и Университета: «Историко-филологический факультет Самарского Университета, возникший из факультета, осно- ванного в Самаре 1 сентября 1917 г. в Педагогическом институте в отчетном учебном 191819 году продолжал свою деятельность в намеченном ранее направлении»31.
Но преемственность между учебными заведениями прослеживается не только и не столько в том, что вновь возникшими учебными заведениями была унаследована от предшественников материальная база учебного процесса, но и в том, что усилиями профессора А.П. Нечаева, директора учительского института, в Самаре был собран небывалый для провинции научно-педагогический коллектив: петроградские ученые составили костяк профессорско-преподавательского состава, к ним присоединялись преподаватели Высших историко-филологических курсов Петроградского педагогического института, профессора и доценты Московского и Казанского университетов. Сообщество разрасталось, формировало все новые профессиональные группы - делались уверенные шаги для создания научно-образовательной системы и для развития научно-просветительской деятельности, традиции которой заложили ранее существовавшие общества аналогичной направленности, поскольку в Самаре возникло Историко-филологическое общество (В.П. Адрианова, А.В. Багрий, А.П. Баранников, М.И. Ливеровская, П.П. Лебедев, А.П. Нечаев, С.А. Щеглова)32. Общество вело плодотворную научную работу, являлось центром притяжения для всех, кто интересовался гуманитарными знаниями, в 1919–1920 учебном году состоялось 17 заседаний общества, на которых было обсуждено 25 научных докладов33. Академиком В.Н. Перет-цем был также организован исторический «Семинарий археологии и искусств», а в отчете о его работе за 1919–1921 гг. указывалось, что «при постоянном содействии академика В.Н. Перетца семинарий пополнился книгами и разными учебными пособиями (фотографии, рисунки, карты и др.), и библиотека семинария насчитывала уже 3 110 названий»34. При семинарии был создан Учебно-показательный музей, в его помещении находилось и ценное собрание рукописей и старопечатных книг в «качестве учебно-вспомогательных струк-тур»35. В целом в течение учебного года одновременно действовало семь-восемь семинариев, которые не только способствовали повышению уровня преподавания на факультете, но и являлись своеобразными центрами практической подготовки студентов, где им прививались навыки самостоятельной научно-исследовательской работы.
В рамках синтетического подхода, развивавшегося Ч. Фитьяном-Адамсом, нам удалось проследить формирование микросообществ в выбранных локусах (в Самаре и Екатеринбурге). Очевидно, что в Самаре проект создания высшего учебного заведения получил ощутимую поддержку местных властей (Земства, Временного правительства, КОМУЧа, политику которого в сфере образования продолжила советская власть), о чем неоднократно указывалось в историографии. Этот вывод вполне закономерен в рамках институциональной истории. Новый ракурс изучения темы позволили уделить внимание «микросообществу» ученых, педагогов, «ревнителей народного просвещения» в кругах общественности и во властных структурах, составлявшему «ядро», то есть устойчивую группу лиц, объединенных общей целью. В Екатеринбурге по указанным ранее причинам произошел распад ядра педагогической общины, тогда как в Самаре в силу существовавших ранее традиций общественной поддержки высшего образования, инициативы ученых, пользовавшихся авторитетом в стране, удалось не только объединить сообщество педагогов и ученых, но и создать «ядро» настоящих подвижников в науке и в высшем образовании, которое и внесло решающий вклад в последовательную трансформацию учительского института в университет.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Кузьмин В.Ю. Самарский учительский институт (1911-1918 годы). Самара, 1999; Струков О.С. Учебные заведения в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев. 1972; Колпаков А.Н. Истoрия высшей шкoлы Самары. Самарский политехникум. Кн.1. Самара, 2004; Колпаков А.Н. Кн. 2: Первый универ-
ситет в Самаре. Самара, 2007; Колпаков А.Н. Педагогическое образование в Самаре. Кн.3. Самара, 2010; Игошев Б.М, и др. Деятельность Екатеринбургского учительского института. История развития педагогического образования в Екатеринбурге (1871–1930). Екатеринбург, 2013.
-
2 Hoskins W. G. Local History in England. Abingdon, 2013; Phythian-Adams Ch. Re-thinking English Local History. Leicester University Press, 1987; Richardson R.C. The Changing Face of English Local History. Abingdon, 2018; Smith-Peter, S. How to Write a Region Local and Regional Historiography. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 5(3). 2004. PP. 527–542.
-
3 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное истори-описание: монография. Орехово-Зуево, 2013; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011; Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Локальная история и историческое краеведение: проблема определения дисциплинарного статуса // Методология и методы изучения региональной истории: Центральное Поволжье в глобализационном измерении: Материалы научного семинара. Казань, 2016. С. 3–22; Ре пина Л.П. Наука и общество: публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации // Учен. зап. Казан. унта. 3. Сер. Гуманит. науки. 2015. (Режим доступа на 11.10.2024: https://cyberleninka.ru/article/n/nauka-i-obschestvo-publichnaya-istoriya-v-kontekste-istoricheskoy-kultury-epohi-globalizatsii ).
-
4 Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М., 2008. Глава: Поиски синтеза микро- и макроподходов в историографии. С. 9.
-
5 Там же. С. 10.
-
6 Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М., 2005. С.212.
-
7 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 173–174.
-
8 По курсу лекций Репиной Л.П. Социальная история в историографии XX столетия. М., 2001.
-
9 Игошев Б.М. и др. Деятельность Екатеринбургского учительского института. История развития педагогического образования в Екатеринбурге (1871-1930). Екатеринбург, 2013. С. 182.
-
10 Бахтина И.Л., Попов М.В. Общеобразовательные школы и учительство Екатеринбурга в годы российской революции (февраль 1917-июнь 1918 г.) // Педагогическое образование в России. 9. 2016. (Режим доступа на 11.10.2024: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4471/1/povr-2016-09-20.pdf ).
-
11 Бахтина И. Л., Попов М. В. Общеобразовательные школы и учительство Екатеринбурга в годы российской революции (февраль 1917 – июнь 1918 ГГ.) // Педагогическое образование в России. 9. 2016. (Режим доступа на 11.10.2024: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4471/1/povr-2016-09-20.pdf ).
-
12 Шведов И.В. Политическое и военное противостояние на Урале в 1917–1921 гг.: региональная специфика, (Доступ на 01.03.2024 http://www.susu.ru/ru/dissertation/d-21229813/shvedov-igor-valerevich ); Поршнева О.С. Власть и рабочие Урала: эволюция взаимоотношений в условиях Гражданской войны // Российская история. 1. 2013. С.47-62.
-
13 Казанцева С.Г. Роль самарского и симбирского дворянства в деле поощрения и поддержки образования на рубеже XIX-XX веков // СНВ. 1(18). 2017. (Режим доступа на 11.10.2024: https://cyberleninka.ru/ article/n/rol-samarskogo-i-simbirskogo-dvoryanstva-v-dele-pooschreniya-i-podderzhki-obrazovaniya-na-rubezhe-xix-xx-vekov.).
-
14 Волошина О.Б. Из истории становления самарского университета в первые годы советской власти // История. Историки. Источники. 2. 2019. С.37.
-
15 Волжский День. 1917. №158. С.3
-
16 Самарский Университет. Историко-филологический факультет. Отчет o деятельности Историкофилологического факультета Самарского Государственного Университета. Самара: Б. и., Б. г. С. 5.
-
17 Центральный государственный архив Самарской области (Далее ЦГАСО). Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 8. Л. 56–56об.
-
18 Самарский Университет. Историко-филологический факультет. Отчет o деятельнoсти Историкофилологического факультета Самарского Государственного Университета. Самара: Б. и., Б. г. С.13
-
19 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп.1. Д.57, Л.1.
-
20 Постановления 9-го заседания Государственной комиссии по просвещению Народного комиссариата по просвещению РСФСР 5 октября 1918 г. // Государственный архив Российской Федерации (Далее ГА РФ). Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 84. Л. 52. Копия.
-
21 №21 Об учреждении Государственных Университетов в гг. Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и о преобразовании в Государственные Университеты бывших Демидовского Юридического Лицея в Ярославле и Педагогического Института в Самаре // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1919 г. / Упр. делами Совнаркома СССР. – М.: Б. и., 1943. С.22.
-
22 Подробнее: Колпаков А.Н. Педагогическое образование в Самаре. История высшей школы Самары. Книга третья. Самара, 2010. Глава III. Второй педагогический институт в Самаре. С.302–305.
-
23 ЦГАСО. Ф. Р-28 Оп.1, Д. 67, Л. 42,42об,43,43об.
-
24 Виленский педагогический институт был эвакуирован в Самарскую губернию в годы Первой мировой войны.
-
25 ЦГАСО. Ф. 106. Оп.1. Д. 79. Л. 78.
-
26 Струков О.С. Учебные заведения в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев. 1972. С. 7-8.
-
27 Колпаков А.Н. Педагогическое образование в Самаре. История высшей школы Самары. Кн.3. Самара, 2010. Глава III. Второй педагогический институт в Самаре. С.302
-
28 Самарский Университет. Историко-филологический факультет. Отчет o деятельнoсти Историкофилологического факультета Самарского Государственного Университета. Самара: Б. и., Б. г. С.12.
-
29 Струков О.С. Учебные заведения в Самаре и Самарской губернии. Куйбышев. 1972. С. 7-8.
-
30 ЦГАСО. Ф. Р-28 Оп.1, Д.67, Л.42,42об,43,43об.
-
31 Самарский Университет. Историко-филологический факультет. Отчет o деятельнoсти Историкофилологического факультета Самарского Государственного Университета. Самара: Б. и., Б. г. С.1.
-
32 Самарский университет. Ученые известия Самарского университета. Вып.1. Самара, 1918. С. 118.
-
33 Самарский университет. Ученые известия Самарского государственного университета. Вып. 3. Самара, 1922. С. 118–120.
-
34 Там же. С. 87–88.
-
35 Там же. С. 91.