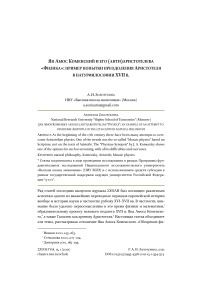Ян Амос Коменский и его (анти)аристотелева «физика»: пример попытки преодоления Аристотеля в натурфилософии XVII в
Автор: Золотухина Анастасия Игоревна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.
Бесплатный доступ
В начале XVII в. предпринималось много попыток преодолеть аристотелеву физику. Одним из направлений была т. н. «Моисеева физика», основывавшаяся на Священном писании, а не на текстах Аристотеля. Пример «Обозрения физики» Я. А. Коменского показывает один из вариантов такого преодоления, со всеми трудностями и удачами.
Натурфилософия, коменский, аристотель, моисеева физика
Короткий адрес: https://sciup.org/147215911
IDR: 147215911
Текст научной статьи Ян Амос Коменский и его (анти)аристотелева «физика»: пример попытки преодоления Аристотеля в натурфилософии XVII в
* Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5-100”.
Ряд статей последних выпусков журнала ΣΧΟΛΗ был посвящен различным аспектам одного из важнейших переходных периодов европейской истории вообще и истории науки в частности: рубежу XVI–XVII вв. В частности, внимание было уделено переосмыслению в это время физики и математики,1 образовательному проекту великого педагога XVII в. Яна Амоса Коменско-го,2 а также Галилею как критику Аристотеля.3 Настоящая статья объединяет эти темы, рассматривая сочинение Яна Амоса Коменского «Обозрение фи-
зики, преображенной в божественном свете» как частный – и показательный – случай попытки преодоления строго перипатетической физики.
В этом смысле Коменский – сын своей эпохи, так как в это время едва ли не все выдающиеся мыслители подвергают Аристотеля критике с той или иной стороны: многими делаются попытки, зачастую весьма успешные, преодолеть главенство аристотелизма, прежде всего, в науке и ее методологии. В одной из немногих статей, специально посвященных «Обозрению физики»,4 ее автор, И. С. Дмитриев, рисует общий интеллектуальный фон (весьма мощный), на котором появляется это сочинение Коменского. Критики Аристотеля в это и немного более раннее время – с одной стороны, Фр. Бэкон, Г. Галилей, Р. Бойль, Р. Декарт (прежде всего и помимо прочего, с этой стороны звучала критика логоцентрического метода и «наивного эмпиризма» перипатетической науки), с другой – М. Лютер (перипатетические этика и логика противоречат лютеранскому догмату sola scriptura, sola fide, sola gratia; Аристотель и его последователи бесполезны для верующих).5 Проблема несоответствия множества новых открытий в области натурфилософии в XVII в. и ригористичной рамки их толкования, «официально» признанной в университетах,6 должна была решаться – и решалась – методологически. Кто-то – как Декарт – разрабатывал принципиально иную философскую систему,7 а кто-то создавал новую натурфилософию, основанную на библейских текстах: только так можно было «узаконить» исследование природы на обновленных основаниях, отказавшись от уже христианизированного когда-то (и по мнению мыслителей XVII в., неудачно) Аристотеля. Так появилось течение, основывающее описание мира на буквальном толковании Священного Писания, которое в истории философии называют Моисеевой Физикой.8 Ян Амос Коменский – один из самых ярких и последовательных сторонников этого течения.
Не ставя своей целью подробно описать в данной статье историю попыток преодоления аристотелизма в натурфилософии (что уже неоднократно предпринималось9), я хочу обратить внимание в этом контексте именно на Коменского и его «Обозрение физики» по нескольким причинам. Во-первых, Коменский отличается от своих, с точки зрения истории философии, возможно, более ярких современников тем, что он – прежде всего, педагог. Следовательно, в своем непринятии аристотелизма как единственной системы изложения натурфилософии он исходит из своей педагогической практики, требований наглядности, правдоподобия, удобства изложения материала: из практических нужд. Таковы и особенности текста «Обозрения физики»: четкий план, изложение по пунктам, обилие примеров, порой некоторая схематичность. В любом случае, на примере этого текста можно увидеть «выжимку» критики перипатетического естествознания, к тому же, в применении к передаче этого знания следующему поколению. Во-вторых, как уже было сказано, сам Коменский не относится к числу выдающихся ученых-натурфилософов своего времени: своей собственной детально проработанной и подкрепленной эмпирическими данными системы он не предлагает, считая предложенный им подход к изложению физики лишь предварительным (см. ниже, Заключение). Отсутствие принципиально новой методологии приводит к тому, что Коменский критикует Аристотеля, по существу, средствами самого Аристотеля. Как будет показано далее, «Обозрение физики» Коменского не слишком отличается по структуре и методу рассмотрения отдельных проблем от перипатетического трактата, берущего свое начало еще в «Физике» Аристотеля. Тем самым, на примере текста Ко-менского можно видеть, как трудна была борьба с главным авторитетом в области наук о природе в XVII в. и каких усилий она требовала от самих борцов.
Ян Амос Коменский10 (1592–1670) прожил жизнь, вполне соответствующую своему времени: с юности принадлежа к евангелической Общине богемских братьев, он, выходец из бедной и простой семьи, к тому же, рано осиротев- ший,11 сумел получить блестящее гуманистическое образование, рано начал преподавать в школах общины, но, с другой стороны, почувствовал на себе тяготы религиозных разногласий этой эпохи, будучи вынужден бежать из родной Чехии из-за гонений со стороны католической церкви. Всю жизнь Коменский занимался, прежде всего, преподаванием и разработкой нового педагогического принципа, позволяющего обучить всех людей всем наукам, вне зависимости от их статуса, пола, состояния, подготовки (это обучение всех всему было названо Коменским Пансофия).
В бытность свою учителем в г. Лешно, Польша,12 Коменский написал «Обозрение физики, преображенной в божественном свете» ( Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis, Leipzig 1633).13 К тому времени он уже был известен другими своими работами, прежде всего, «Открытой дверью к языкам» ( Janua linguarum reserata ) и «Великой дидактикой»14 (изначально написана на чешском, впоследствии переведена на латынь под названием Didactica magna ) и несколькими другими учебниками. Однако «Обозрение физики» – важное сочинение, посвященное новой концепции понимания – и преподавания – натурфилософии. При жизни Коменского переиздавалось четырежды (1643 и 1645 гг., Амстердам; 1647 г., Париж; 1663 г., Амстердам, в заглавии reformatae заменено на reformandae 15) , было переведено на английский язык ( Naturall Philosophie Reformed by Divine Light; or A Synopsis of Phys-icks, London 1651).
Структура «Обозрения физики» (издание 1663 г.) такова:
Общее вступление16 (Praefatio)
Введение о природе физики и о занятиях ею17 (Prolegomena de physicae natura et usu)
-
I. Замысел сотворения мира и его сотворение
-
II. О началах, материи, духе и свете мира
-
III. О движении вещей
-
IV. О качествах вещей
-
V. Об изменениях вещей
-
VI. Об элементах
-
VII. О парах
-
VIII. О сгущениях
-
IX. О растениях
-
X. О животных
-
XI. О человеке
-
XII. Об ангелах
Приложение к физике о болезнях тела, духа и души и их излечении.
Дополнение к физике (Ad physicam addenda)
Во Вступлении Коменский объясняет задачу своего труда и описывает метод, разработанный им для изучения и педагогического изложения учения о природе:
-
1. Истинный, подлинный, ясный способ философствования – единственно тот, в котором все черпается из чувства, разума и Писания (sensu, ratione, Scriptura) .
-
2. Перипатетическая философия не только несовершенна во многих своих частях, но и во многом запутанна, двусмысленна и даже частично ошибочна, так что она не только бесполезна для христиан, но даже (без исправления и усовершенствования) вредна.
-
3. Преобразовать и усовершенствовать философию можно, гармонически приведя все, что есть и появляется, к чувству, разуму и Священному Писанию , причем (во всех важных и имеющих некую необходимость вещах) с такой ясностью и уверенностью, чтобы любой смертный смог, посмотрев, увидеть и, пощупав, ощутить разлитую повсюду истину (Praefatio 718).
Немногим ниже он заключает: «Итак, пусть уже считается доказанным, что философия без Божественного откровения увечна. Отсюда вытекает, что не должно более христианским школам терпеть Аристотеля как единственного учителя философии, но философствовать надо свободно, по наущению чувств, разума и Писания (Praefatio 20)».
Тем самым, уже в начале своего труда Коменский обозначает свои цели, одной из которых является развенчание перипатетической натурфилософии. Следует отметить, что в своей критике Коменский апеллирует то к Аристотелю напрямую, то к перипатетикам вообще, под каковыми он может иметь в виду весь спектр перипатетических направлений того времени: томисты, скотисты, последователи Фр. Суареса.19 В данной статье рассматриваются, прежде всего, расхождения и сходства с самим Аристотелем, для чего была сделана подборка релевантных упоминаний Аристотеля и его учения во всем тексте «Обозрения физики». Все эти случаи можно поделить на два раздела: первый раздел представляет собой различные пункты критики Аристотеля по существу и в частности, второй, наоборот, сходства изложения натурфилософии у Коменского и Аристотеля.
-
I. Критика Аристотеля
-
I.1. Установка и общие положения
-
Как было сказано выше, в своем изложении истинного метода познания природы Коменский считает основополагающей опору на три принципа: чувственный опыт, разум, Писание (sensus, ratio, Scriptura).20 При этом, уточняет Коменский, важно держать эти три принципа в гармонии, не позволяя ни одному взять верх: тот, кто увлекается чувственным познанием, «не узнает ничего сверх обывателя»21; доверяющие лишь Писанию «либо уносятся прочь от мира... либо, следуя букве Писания, придумывают всякие абсурдные суеверия и верят в них сами», наконец, «тот, кто, созерцая абстрактное, доверяет лишь разуму, без чувственного опыта, увлекается чи- стыми фантазмами и создает собственные новые миры, подобные платоническому, аристотелевскому и т.д.» (Praefatio 8–9).
Именно эта «мертвенность» аристотелевского учения, не соответствие ее жизни, не устраивает Коменского и, по его словам, его предшественников, Бэкона и Кампанеллу. Вполне в духе общих установок «Моисеевой философии» Коменский призывает отказаться от запутавшейся в самой себе традиции языческой философии. Аристотель устарел, его учение непонятно, а подход авторитарен:
Разве мы не на равных помещены в сад природы? Отчего же тогда нам на равных не раскрыть наших глаз, ноздрей, ушей? Отчего не учить дела природы от другого учителя, а обязательно именно от этих? Отчего, наконец, не развернуть живую книгу мира вместо мертвых бумаг? В ней можно разглядеть больше интересных и полезных вещей, чем в любом другом рассказе. Если у нас будет нужда в толковании какого-то места, то Создатель природы – лучший толкователь самого себя. Если в наставнике и подсказчике, то мы найдем многих лучше Аристотеля, ведь пока столько веков текли по разнообразным тайным меандрам природы, опыт увеличивался. Как все человеческое восходит от грубого начала к совершенству, так и философия обладает собственным ростом. Во времена Аристотеля она едва вышла из колыбели, зато в последующие века – и особенно в наш – настолько возросла новыми наблюдениями, что по сравнению с ней аристотелева уже имеет привкус неясности и туманности, а то и явно лжет ( Praefatio 20);
Воистину чем больше в чем-то неподкрепленного чувствами воображения, тем больше в нем и тщеславия, и тем дальше оно от истины. Равным образом, чем меньше что-то причастно мудрости откровения, тем меньше и истине. Такова, по большей части, языческая философия: пуста и бесплодна... За открытиями Аристотеля много ума, но мало пользы (ingenii quidem multum, sed parum utilitatis). И более того, Кампанелла и Веруламец, христианнейшие философы (сведущие в философии, извлеченной из чувства и Писания), показали, что все учение Аристотеля – лишь рассадник диспутов (то есть, темных мест , сомнений, противоречий, споров и сражений) и состязания вслепую... ( Prolegomena VII).
Поскольку на протяжении истории предпринимались множественные попытки «обручить» философию язычников с христианской верой, но все они
А. И. Золотухина / ΣΧΟΛΗ Vol. 15. 1 (2021) 361 потерпели крах, необходимо отказаться от этих попыток, которые не удались самым выдающимся умам прежних веков:
В самом деле, очень скоро печальнейшее положение Церкви показало, какой плод дало это сопряжение Аристотеля со Христом: когда все наполнилось треском диспутов (ведь скользкие вопросы и зуд противоречия составляют самую душу перипатетизма) и ересь пышно произрастала из ереси, в конце концов, дым человеческих мнений полностью затмил блеск Божественной премудрости и выродился в антихристианство. И вот уже Аристотель на равных с Христом ковал звенья веры и устанавливал правила жизни, если не сказать, что он и вовсе стал диктатором, что замечательно отражено в схоластическом богословии. Но если Ориген, человек столь тонкого ума, напрасно пытался приспособить языческую философию к христианству, и ничуть не лучше это получилось у Фомы, Скота и кого угодно еще, зачем же нам это терпеть? Почему не вытащить наши умы из этих силков? Почему не выбросить очки, являющие нам иллюзии вместо реальности? ( Praefatio 24)
Изучение природы по Аристотелю не подходит для той новой школьной системы, за которую ратовал Коменский: «слепое» следование авторитету не развивает ученика, а тексты, заменяющие прямое соприкосновение с природой, например, с помощью опытов (примеры опытов, подходящих для обучающихся, Коменский неоднократно приводит22), чрезмерно усложняют процесс познания:
Поэтому, прошу, обратим, наконец, силы на то, чтобы школы прекратили убеждать, но начали доказывать; прекратили рассуждать, но начали рассматривать; прекратили, в конце концов, верить, но начали знать. Ведь одинаково деспотичны и губительны и аристотелево «учащийся должен верить» (Aristotelicum illud discentem oportet credere23), и «αὐτὸς ἔφα24» пифагорейцев. Пусть никого не заставляют присягать словам учителя, но пусть сами предметы управляют умом; и пусть наставнику верят не больше, чем он сам докажет своими аргументами ( Praefatio 28).
Еще раз суммируя свои полемические выводы, Коменский завершает Введение к основной части своего сочинения следующим риторическим абзацем:
Стало быть, пусть будет для нас, служителей природы, правилом не опираться ни на какой авторитет, кроме Творца природы и самой природы... Писание, чувство и разум будут нам вождями, свидетелями, повелителями. А если кто не согласится с их свидетельствами, то покажет себя настоящим глупцом и пустословом ( Prolegomena VII).
Вышеприведенные цитаты создают образ уверенного в себе исследователя нового образца, готового предложить собственную систему знаний о природе и радикально новый метод ее изучения. Однако, как мы увидим далее, Коменский и близкие ему мыслители отчетливо понимали, каким образом они хотели бы преодолеть Аристотеля (на основании отказа от изучения его текстов как исключительного образца, на выборе в пользу библейских текстов, наконец, на материале собственных опытов и исследований), но также осознавали, что на деле осуществить это совсем не просто. Степень непререкаемой авторитетности Философа в начале XVII в., который мы привыкли называть началом Нового времени, Коменский показывает на примере весьма показательной цитаты из письма Рудольфа Гоклениуса Николаю Тауреллу25:
Что ж (пишет Рудольф Гоклениус Николаю Тауреллу), пусть венец человеческого разумения явлен природой в Аристотеле; пусть Аристотель имеет великие заслуги перед всеобщей человеческой мудростью, более всех прочих смертных; пусть он – отец и вождь нашей мудрости; пусть высший диктатор мудрости, главнокомандующий философов; пусть он – знамя философского царства, мудрости, ученой славы; пусть Геркулес, князь, судья истины; божество философов; пусть, наконец, он – муж превыше всякой похвалы и сильнее всякой клеветы – каковыми эпитетами награждает его Юлий Скалигер – но все же это чудо природы – не образец истины (norma veritatis), так как и он не всюду держался ее курса ( Praefatio 21).
-
I.2. Критика Аристотеля по существу
В основной части своего труда Коменский охотно дает примеры «отклонения» Аристотеля от «курса истины» (см. выше). Основные источники обновленных физических знаний – по-прежнему, Бэкон и Кампанелла, а также физики и астрономы, современники Коменского, в частности, он неоднократно ссылается на Т. Лидиата, астронома из Оксфорда, а именно, на трактат Praelectio astronomica de Natura coeli (1605). Лидиат близок Комен-скому тем, что он, признанный астроном, считает главным авторитетом библейский текст, объясняющие некоторые феномены лучше, чем языче-
- ская философия. Например, таким образом Лидиат фундировал свое неприятие пятого элемента26. Коменский с ним полностью согласен:
Элементов четыре: эфир, воздух, вода, земля.
...Перипатетики ставят на место эфира подлунный огонь, а эфир называют квинтэссенцией, пятой сущностью. Но этот подлунный огонь – самый настоящий вымысел: само небо, богатое огненным светом, – высший элемент мира, как явлено Писанием и вслед за ним самими чувствами. Если наших объяснений недостаточно и требуются более тонкие доказательства, можно посмотреть Кампанеллу, Веруламца, O природе неба Томаса Лидиата и др. и убедиться в бесполезности вымысла аристотеликов (VI. 3).
Далее в той же главе, посвященной элементам, содержится пример небрежной передачи мысли Аристотеля:
Аристотель считал, что элементы находятся в десятикратной пропорции друг к другу, но позднейшие ученые обнаружили, что в стократной. То есть: из одной капли земли получается путем разреживания десять капель воды; и из одной капли воды – десять воздуха (VI.10).
В действительности искомое место у Аристотеля выглядит так: «Если их сопоставлять по количеству, то все сопоставляемые [элементы] должны содержать то, чем они измеряются. Например, если из одной чаши воды получится десять чаш воздуха, то у обоих было нечто общее, поскольку они измеряются одной и той же мерой» (Εἰ µὲν οὖν κατὰ τὸ ποσόν, ἀνάγκη ταὐτό τι εἶναι ὑπάρχον ἅπασι τοῖς συµβλητοῖς ᾧ µετροῦνται, οἷον εἰ ἐξ ὕδατος κοτύλης εἶεν ἀέρος δέκα· τὸ αὐτό τι ἦν ἄρα ἄµφω, εἰ µετρεῖται τῷ αὐτῷ; GC 330a20; зд. и далее перев. Т.А. Миллер). Вероятно, в данном случае Коменский опирается на «Новый органон» Фр. Бэкона: «Произвольно вкладывается в то, что зовётся элементами, мера пропорции один к десяти для определения степени разреженности и тому подобные бредни» (Ι. 45, перев. С. Красильщикова). Ко-менский не цитирует Аристотеля точно, в противном случае, приведенное место из «О возникновении и уничтожении» невозможно было бы представить в виде оформленной теории: в оригинале Аристотель лишь приводит пример в рамках критики теории элементов Эмпедокла.
Сходным образом Коменский неверно интерпретирует Аристотеля в вопросе о солености моря, также занимавшем натурфилософов его времени:
Море соленое не потому (как думал Аристотель), что солнечные лучи вытягивают тонкие части воды, а остальные сжигают, но от заключенного в недрах земли... жара (VIII.52).
Аристотель начинает рассуждение о солености моря не с собственного мнения, а с отвергаемой им идеи о том, что море изначально было пресным, но стало соленым из-за примесей горькой земли. То, что приписывает Аристотелю Коменский, сам Аристотель приписывает Эмпедоклу, который называл море «пóтом земли» (Arist. Mete. 357a). Аристотель предполагает, что соленость моря как результат выпаривания была бы возможной при «высушивании и нагревании земли», из которой выделилось большое количество воды, однако недоумевает, отчего так же не происходит и теперь. Заключает он рассмотрение этого мнения о причинах солености моря таким образом: «Более правдоподобно, чтобы большая часть влаги испарилась и поднялась вверх под действием солнца, а остаток образовал, как думают некоторые, море; но уж потение влажной земли, во всяком случае, невозможно» (ibid., 357b; зд. и далее перев. Н. В. Брагинской). Чуть ниже Аристотель приходит к следующему выводу о природе солености моря: «Исходя из этого надо попытаться дать объяснение солености [моря]. Множество признаков ясно указывают, что такой вкус вызван какой-то примесью... Что соленость заключена в некоей примеси, ясно не только из всего уже сказанного... [Наше] утверждение, что соленый вкус создается некоторым веществом и что присутствующее [тут вещество] землеобразно, подтверждают все [данные] такого рода» (ibid., 358a-359a). Тем самым, Аристотель связывает соленость моря с землей – и оказывается ближе к излагаемому Коменским «истинному» мнению, чем предполагает сам Коменский, заимствовавший это свое описание из Т. Кампанеллы (Campanella 1623, 48) – вместе с неверной атрибуцией Аристотелю теории испарения воды от солнечных лучей. Интересно отметить, что в вопросе причин солености моря философы, в той или иной степени следующие приципам «Моисеевой физики», расходились между собой: уже упоминавшийся Т. Лидиат считал, что пока не появилось объяснения лучше данного Аристотелем, предпочтительнее держаться его, чем за неимением естественных причин обращаться к причинам сверхъестественным, ограничиваясь утверждением, что Бог создал море соленым, как это делали некоторые его современники.27
Еще один пункт расхождения Коменского с Аристотелем – природа комет:
Кометы – это дополнительные звезды, которые то светят, то вновь затухают; чаще всего хвостатые или косматые. Мы причисляем их к небу и звездам, а не к воздуху и метеорам, потому что они зарождаются не в подлунных областях (как думал Аристотель), а в самом верхнем небе, даже над солнцем (VIII. 20).
В данном случае Коменский следует Т. Браге, И. Кеплеру и Г. Галилею,28 которые также помещали кометы в надлунную область, в отличие от Аристотеля (см. Mete. 344a). Далее Коменский уточняет, что кометы являются не «воспламененными парами, но поднявшимися вверх парами, отражающими солнечный свет»29 (VIII. 21), также вразрез с Аристотелем, как раз считавшим кометы воспламенившимися испарениями (ibid.).
В главе, посвященной животным, находится еще одно несогласие с Аристотелем:
Управитель всего порождения, как и у растений, – дух. Вначале, нагревшись в семени, он формирует для себя обиталище, а именно, мозг и голову, а затем, иногда выбираясь оттуда, понемногу мягко творит остальные части тела, а потом опять возвращается в место своего пребывания, чередуя отдых и работу: отсюда происходит бодрствование и сон.
То есть, формирование живого существа начинается не с сердца, как думал Аристотель, а с головы. Действительно, голова – это почти уже все животное, а остальное тело – всего только система органов для разных действий (Χ. 52).
Объяснение Коменского в данном случае таково: сердце есть не у всех животных, а голова и мозг – у всех. Мнение Аристотеля: «...так как ни одна из бескровных частей, ни сама кровь не чувствительны, ясно, что первое, что содержит кровь и притом содержит ее как бы в сосуде, необходимо должно быть началом. Что это так, ясно не только из рассуждения, но и из чувственного восприятия: именно у зародышей сердце сейчас же раньше всех частей обнаруживает движение, как если бы оно было живым существом, так как оно является природным началом для животных с кровью. Доказательством сказанного служит то, что сердце существует у всех животных с кровью: для них ведь необходимо иметь начало для крови» ( PA 666a; перев. В.П. Карпова; cf. ibid. 740a). В своих сведениях Коменский вновь опирается на Кампанеллу (Ср. Campanella 1617, 74).
-
II. Сходство «Физики» Коменского с Аристотелем
-
II.1. Принципы и структура изложения
-
Несмотря на заявленное во Введении резкое неприятие аристотелевой натурфилософии и необходимость полного от нее отмежевания, а также на вышеприведенные случаи несогласия Коменского с Аристотелем в частных вопросах, само изложение физики Коменским выполнено почти исключительно по аристотелевым образцам. Эти образцы, касающиеся самого принципа создания научного текста, в 1-ой половине XVII в. представлялись настолько естественными, что – по крайней мере, в случае Коменского (а этот случай показателен, поскольку, не являясь сильным и оригинальным натурфилософом, Коменский излагал устоявшийся взгляд мыслителей своего времени в максимально четком, почти схематическом виде, доступном для обучающихся) – критикуя Аристотеля, не приходило в голову начинать с критики самого научного метода и принципа изложения предмета.30
Для примера достаточно рассмотреть самое начало «Физики», а именно, Вступление о природе физики и о занятиях ею :
Физика есть наука о природных вещах (rerum naturalium scientia).
Природное есть то, что от природы, а не от искусства.
Все, что есть в видимом мире, происходит или от природы, или от искусства. От природы – то, что в начале сотворил Бог или то, что от заложенной в вещах силы до сих пор порождается: небо, земля, море, река, гора, камень, металл, трава, животное и т.д. От искусства – то, что создали люди, придав природному новую форму: город, дом, водохранилище, канал, статуя, монета, одежда, книга и т.д., т.е., произведения человеческого гения и рук. Подобными вещами физика не занимается, они относятся к искусствам. Но поскольку природа предшествует искусству – более того, искусство лишь подражает природе, так как творит лишь силой природы – то отсюда с необходимостью следует, что в основу искусств следует положить природу и ревнителям искусств надо, прежде всего, познать природу, что она делает и какой силой повсюду действует ( Praefatio I–II).
Легко заметить, что Коменский начинает свое изложение физики с того же разделения всех вещей на природные и искусственные, что содержится в начале II книги «Физики» Аристотеля: «Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин. Животные и части их, растения и простые тела, как-то: земля, огонь, воздух, вода – эти и подобные им, говорим мы, существуют по природе» и т. д. (Arist. Ph. 192b; зд. и далее перев. В. П. Карпова). «Искусство лишь подражает природе» – также знаме- нитый тезис Аристотеля из той же II книги «Физики»: ἡ τέχνη µιµεῖται τὴν φύσιν (ibid. 194a). Ср. также еще один подобный тезис: «Природа совершенно точно ничего не делает напрасно» (Prolegomena V) и Ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν µάτην ποιοῦσιν (Ar. Cael. 271a). В целом, все Вступление построено на II книге «Физики», с той только разницей, что зачастую на место природы у Аристотеля Коменский ставит Бога как первопричину природы: «Природа вещей – это закон рождения и умирания, действия и прекращения, который дал всему своему творению Бог, создатель всего» (Prolegomena III), ср.: «Природа есть некое начало и причина движения и покоя для того, чему она присуща первично, сама по себе» (Arist. Ph. 192b).
Помимо самого определения физики как науки о природе, Коменский воспринимает многие другие введенные Аристотелем принципы рассмотрения предмета: например, практически каждую новую главу или подглавку Коменский начинает с определения того, чему посвящена эта глава. Более того, многие определения полностью соответствуют классическим определениям Аристотеля. Показательно, например, начало IV главы, посвященной качествам:
Качество – это акциденция тела, благодаря которому все называется таким или таким. (Qualitas est accidens corporis, per quod unumquodque tale vel tale dicitur) (IV.1) . Аристотель: «Качеством я называю то, благодаря чему предметы называются такими-то» (Ποιότητα δὲ λέγω καθ' ἣν ποιοί τινες λέγονται , Cat. 8b; перев. А. В. Кубицкого).
Дав определение, Коменский часто переходит к перечислению разновидностей предмета или его подразделений. Так, например, происходит в случае с описанием осязания:
Осязаемое качество есть то или иное расположение частей материи в теле. Его составляющих семь. Каждое осязаемое тело является: 1) разреженным или плотным, 2) влажным или сухим, 3) мягким или твердым, 4) гибким или жестким, 5) гладким или шершавым, 6) легким или тяжелым, 7) жарким или холодным (IV. 12).
Подобным образом действует обычно и Аристотель. Осязание описывается им в «О возникновении и уничтожении» и также разделяется на 7 противоположных качеств: «теплое – холодное, сухое – влажное, тяжелое – легкое, твердое – мягкое, вязкое – хрупкое, шероховатое – гладкое, грубое – тонкое» ( GC 329b).
По такому образцу построены все главы «Обозрения физики» Коменско-го; в качестве последнего, показательного примера можно привести описание Коменским изменения тела и его разновидностей:
Изменение тела может быть сущностным (essentialis) или акцидентальным (accidentalis). Сущностное изменение бывает тогда, когда вещь начинает быть или прекращает быть: первое называется рождением, а второе уничтожением... Акцидентальное изменение бывает тогда, когда вещь растет, уменьшается или изменяет качества: первое называется увеличением, второе уменьшением, третье видоизменением (V. 3–5).
Во-первых, налицо свободное употребление перипатетических терминов «сущностный» и «акцидентальный», пронизывающих текст Коменского.31 Во-вторых, виды изменения тела (рождение, уничтожение, увеличение, уменьшение, видоизменение, generatio, corruptio, augmentatio, diminuitio, alteratio) почти полностью соответствуют видам движения по Аристотелю (возникновение, уничтожение, увеличение, уменьшение, превращение и перемещение, γένεσις, φθορά, αὔξησις, µείωσις, ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον µεταβολή, Arist. Cat. 15a) за исключением того, что последний вид по Аристотелю Ко-менский выносит в отдельную разновидность изменения: собственно, движение (прочие аристотелевы виды движения он называет изменениями).
-
II.2. Описание природных явлений
Кроме самого принципа изложения, сами природные явления также очень часто освещаются Коменским в аристотелевском ключе – разумеется, без указания источника. Здесь можно привести множество примеров, по большей части, касающихся теории метеоров (и Аристотель, и, в целом, Комен-ский придерживаются теории испарений разного рода, поднимающихся в воздух), однако, затрагивающих и другие природные царства. Обобщая, можно сказать, что в том, что касается метеоров, воды и водяных сгущений, а также минералов, основным источником для Коменского является Аристотель (по большей части, Метеорологика ), а в отдельных случаях он ориентируется на Кампанеллу (в основном, Realis philosophia, см. Campanella 1623, 63sqq.). Например, описывая в главе «О парáх» природу ветров, Коменский выделяет постоянные ветры и ежегодные, обозначая эти последние греческим словом ἐτησίαι (VII. 13), что восходит к Аристотелю, подробно описывающему эти
ἐτησίαι и их природу в «Метеорологике» ( Mete. 361b): они появляются сезонно, благодаря испарениям, исходящим от земли из-за того, например, что солнце растапливает снег. Коменский в сжатом виде повторяет объяснение Аристотеля, не ссылаясь на него. В той же главе содержится описание природы морских приливов (VII. 15–18), которые, как и землетрясения (VII. 21–22), связываются Коменским с движениями глубинных паров (подводных или подземных), что в целом соответствует Arist. Mete. 366a.32
В главах, посвященных растениям, животному миру и человеку, разумеется, также встречаются расхожие перипатетические воззрения, восходящие к Аристотелю, такие, например, как принцип уподобления пассивного начала активному («Из метафизиков известно, что всякое действие направлено на то, чтобы пассивное начало уподобилось активному», patiens assimi-letur agenti, Χ. 11) – ср. Arist. GC 324a: καὶ ὅλως τὸ ποιητικὸν ὁµοιοῦν ἑαυτῷ τὸ πάσχον; или же знаменитое представление о самозарождении живых существ: у Коменского черви самозарождаются в трупах (Χ.appendix IV), что, в конечном итоге, восходит к представлению Аристотеля о том, что некоторые животные, в частности, рыбы самозарождаются в иле, песке, пене, грязи и пр. ( HA 569a–b). Нередко Коменский совмещает два своих главных источника, Аристотеля и Кампанеллу, заимствуя что-то у обоих: в главе «О животных», дав определение животному и описав их главные отличительные свойства, Коменский выделяет семь их основных способностей: «1. питание, 2. жизнь, 3. ощущение, 4. передвижение, 5. самовыражение, 6. защита 7. наконец , порождение» (X. 6). Эти способности объединяют в себе выделенные Аристотелем ( de An . 414a–b) и перечисленные Кампанеллой (Campanella 1623, 118 sqq.).
-
III. Цитаты из Аристотеля
Наряду с критикой и непрямыми заимствованиями в «Обозрении физики» встречаются и непосредственно цитаты из Аристотеля. То, каким образом они встроены в текст, достаточно сигнификативно. В главе II, приводя слова Аристотеля не в критическом ключе, Коменский ссылается на авторитетный для него источник, Д. Зеннерта,33 также борца с аристотелевой физикой, после чего подкрепляет свою мысль цитатой из Книги Иова, чтобы не заканчивать рассуждение цитатой из Аристотеля:
Аристотель же, по Зеннерту, называет жизненный дух διὰ πάντων διήκουσαν ἐµψυχόν τε καὶ γόνιµον οὐσίαν,34 т. е., повсюду проникающей одушевленной и порождающей сущностью. Однако более всего достойно внимания свидетельство Елиуя, который говорит так: Кто управляет всею вселенною? Если бы Он (т. е., Бог) обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее (или: дух Свой и дыхание Свое, так как это местоимение можно перевести с иврита двояко), вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах (Иов 34: 13–14) (II. 1).
В дополнении к этой главе Коменский снова воспроизводит эту же цитату и оборачивает ее в пользу Аристотеля, но против аристотеликов, так как Д. Зеннерт не мог ошибиться, атрибуируя Аристотелю на основании этой цитаты признание важной для Коменского концепции существования души мира:
А все же какова сила истины, вырывающей признание себя даже против воли! Сам Аристотель в «О мире» признает διὰ πάντων διήκουσαν ἐµψυχόν τε καὶ γόνιµον οὐσίαν (всюду разлитую, живую и порождающую сущность). А в III книге, 11 главе «О происхождении животных» он говорит: «ἐν γῇ µὲν ὕδωρ ὑπάρχειν ἐν δ' ὕδατι πνεῦµα, ἐν δὲ τούτῳ παντὶ θερµότητα ψυχικήν, ὥστε τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη35» (в земле есть влага, в воде – дух, а в духе – жизненное тепло, так что всё каким-то образом исполнено душой). Зеннерт приводит эти слова Аристотеля и утверждает, что он не отрицал существование души мира. Отчего же отрицают его аристотелики? (Ad physicam addenda, II.15)
Коменский легко «подправлял» слова Аристотеля, желая доказать, что последний иногда оказывался прав, особенно в случаях, когда его правота согласовывалась с убеждениями самого Коменского. Далее в том же дополнении к главе II он приводит в пользу существования души мира еще два места из Аристотеля с собственной трактовкой:
На основании самого текста Аристотеля можно убедительно доказать существование души мира. Во II книге, 7 главе «Физики» он приписывает сущностной форме свойства побуждающей силы (formae essentiali efficientiam tribuit), а во II книге, 9 главе «О возникновении и уничтожении» утверждает, что свойство материи – претерпевать, а формы – действовать, и упрекает тех, кто выводит всякое действие только из качеств (Ad physicam addenda, II.35) .
Из чего Коменский делает вывод, что если всякое действие всякой вещи исходит не из материи (ведь она может только претерпевать) и не из качества, то необходимо третье первоначало, которое Аристотель называет формой или энергией, Платон душой и т. д. Коменский при этом свободно трактует соответствующие места из Аристотеля: в месте из «Физики» он выделяет четыре причины (материальная, формальная, движущая и «ради чего»), и говорит, что часто три из них (все, кроме материальной) совпадают – однако речь не идет напрямую о придании свойств движущей причины причине формальной (Ph. 198a). В названном месте из «О возникновении и уничтожении» сказано буквально следующее: «материи свойственно испытывать воздействие и двигаться, двигать же и действовать – это свойство иной силы» (GC 335b29–31), критикуя тех, кто говорит, что причина изменения – движение. Иными словами, нельзя сказать, что Коменский откровенно искажает слова Аристотеля, но и здесь, и в других местах он видит в тексте Стагирита то, что хочет видеть.
Заключение
Часто утверждается, что Коменский удачно сформулировал принцип «Моисеевой физики» и отказа от физики аристотелевой во Вступлении к своему труду, но при всей красоте и понятности этого принципа, на деле ему следовать не удалось, поскольку его «Обозрение физики», по сути, излагает предмет еще вполне в аристотелевом духе (что было продемонстрировано выше).36 С другой стороны, надо все же отдать должное Коменскому: во многих случаях ему удается придерживаться заявленного принципа и доказывать физические явления, как он и хотел, sensu, ratione, Scriptura. Например:
На то, что в земле заключен огонь, указывают: 1. Огненные извержения Этны, Везувия, Геклы. 2. Горячие ключи во многих местах. 3. Порождение металлов, даже в холодных местах, и других вещей, которые могут появиться только от огня, о чем ниже. 4. Наконец, есть свидетельство в книге Иова 28: 5: Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем (VI.1737).
Несмотря на вышеописанное противоречивое отношение к Аристотелю, Ко-менский считает, что он на правильной дороге и сам отлично сознает пока еще несовершенство своей «Физики». Однако он исповедует принцип «лучше сделать, чем не сделать». Свои недочеты и заслуги он сам описывает так:
Если кто-то будет настаивать, что этим соображениям еще недостает ни точности, ни очевидности, чтобы предпочесть их уже давно всеми принятому учению Аристотеля, я отвечу, что не в этом сейчас моя цель, а в том только, чтобы предложить пример возможного устройства более истинной философии, ведомой Богом, освещаемой разумом и поверяемой чувствами – но для этого философы должны больше служить Богу и истине, чем Аристотелю и мнениям... Почему бы не считать новыми открытиями (1) эту так ясно показанную триаду принципов из Писания, разума и чувства? (2) Удивительную лестницу субстанций, состоящую из семи ступеней? (3) Учение о духах (как отдельных, так и воплощенных), (4) о движениях и (5) качествах, изложенное точнее и яснее, чем когда-либо ранее, и проливающее совершенно новый свет на науку о природе?
Говоря вкратце, я надеюсь, что в изложенной этим методом физике так много света, что сомнениям и рассуждениям останется совсем немного места – так что немало она сделает и для примирения вражды разных авторов, приведя в гармонию мнения всех их (все, что истинного есть у Аристотеля, и что Гален, химики, Кампанелла, Веруламец разумно ему возражают). Это ясно хотя бы на примере тех начал, из которых состоят тела (Аристотель называет четыре элемента, спагирики – соль, серу и ртуть) (Praefatio 32–35) .
Нельзя всерьез утверждать, что «Обозрение физики» Коменского действительно оказало значительное влияние на дальнейшее развитие этой науки – хотя в свое время это сочинение имело определенную популярность, переиздавалось и присутствовало в библиотеках ученых эпохи.38 Однако с точки зрения истории науки и истории философии «Физика» Коменского является важным образцом движения мысли в эпоху отказа от авторитетов прошлого и перехода к «новому миру», перехода трудного и порой болезненного, о чем свидетельствуют как научные и философские труды первой половины XVII в., так и поэзия этой эпохи «новой философии», как назвал ее Джон Донн.39
Список литературы Ян Амос Коменский и его (анти)аристотелева «физика»: пример попытки преодоления Аристотеля в натурфилософии XVII в
- Афонасин, Е.В. (2017) «Античные натурфилософы о приливах и течениях», Фило- софия и космология 19, 155–165.
- Дмитриев, И.С. (2007) «Я.А. Коменский и “Моисеева физика”: в поисках натурфило- софского благочестия», в: С.М. Марчукова, ред. Наследие Яна Амоса Коменского в контексте проблем современного образования: материалы междунар. науч.–практ. конф. Санкт-Петербург, 66–72.
- Дмитриев, И.С. (2017) «Peripateticus creatus: Галилей против Аристотеля», ΣΧΟΛΗ (Schole) 11.1, 185–193.
- Золотухина, А.И., пер., Марчукова, С.М., прим. (2018) Я. А. Коменский. «Обозрение физики, преображенной в согласии с божественным светом», Интеллекту- альные традиции в прошлом и настоящем 4, 105–119.
- Иванов, В.Л. (2020) «Конституция физики и достоверность математики в схоласти- ческой философии XVI в.», ΣΧΟΛΗ (Schole) 14. 1, 143–163.
- Кларин, В.М., Джуринский, А.Н., сост. (1989) Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. Москва: Педагогика.
- Марчукова С.М. (2018) «Физика Я.А. Коменского как пансофическое сочинение (предисловие к переводу)», Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем 4, 101–104.
- Степанова, А.С. (2020) «Ян Амос Коменский и Сенека: генезис философско- образовательного проекта», ΣΧΟΛΗ (Schole) 14. 1, 207–214.
- Blair, A. (2000) “Mosaic Physics and the Search for a Pious Natural Philosophy in the Late Renaissance,” Isis 91, 32–58.
- Blekastad, M. (1969) Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky. Oslo-Praga.
- Campanella, T. (1617) Prodromus philosophiae instaurandae. Compendium de rerum natu- ra pro philosophia humana. Francofurti.
- Campanella, T. (1623) Realis Philosophiae epilogisticae partes quatuor. Francofurti.
- Del Soldato, E. (2020) Early Modern Aristotle. On the Making and Unmaking of Authority. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Di Biase, G. (2015) “Aristotle's “Physica” in John Locke's Schemes of Natural Philosophy,” Rivista di filosofia neo-scolastica 107.4, 867–881.
- Leijenhorst, C., Lüthy, C., Thijssen, J.M., eds. (2002) The Dynamics of Aristotelian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century. Leiden: Brill.
- Kyralová, M., Sousedík, S., Steiner, M., eds. (1978) Comenii J. A. Physicae ad lumen Divi- num reformandae synopsis. Ad Physicam addenda. Johannis Amos Comenii opera Omnia. Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 12. Praha: Academia.
- Whittaker, Ε.Τ. (1951) A History of the Theories of Aether and Electricity. Vol. 1: The Classi- cal Theories. London: Th. Nelson and Sons.