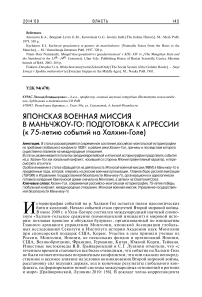Японская военная миссия в Маньчжоу-го: подготовка к агрессии (к 75-летию событий на Халхин-Голе)
Автор: Курас Леонид Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается современное состояние российско-монгольской историографии по проблеме глобального конфликта 1939 г. в районе реки Халхин-Гол, причины и последствия которого существенно повлияли на международные отношения. В статье развенчиваются попытки западноевропейской и японской историографии представить события на р. Халхин-Гол как локальный конфликт, носивший со стороны Японии превентивный характер, и пересмотреть его итоги. Особое внимание в статье обращается на деятельность Японской военной миссии (ЯВМ) в Маньчжоу-Го в предвоенные годы, которая, опираясь на русские военные организации, Главное бюро русской эмиграции (ГБРЭМ) и Управление государственной безопасности Маньчжоу-Го, организационно и идеологически готовила нападение Квантунской армии сначала на Монголию, а затем и на Советский Союз.
Халхин-гол, современная российско-монгольская историография, 75-летие победы, глобальный конфликт, международные отношения, японская военная миссия, управление государственной безопасности маньчжоу-го
Короткий адрес: https://sciup.org/170167605
IDR: 170167605
Текст научной статьи Японская военная миссия в Маньчжоу-го: подготовка к агрессии (к 75-летию событий на Халхин-Голе)
И сториография событий на р. Халкин-Гол остается полем идеологических битв и коллизий. Начало событий стало предтечей Второй мировой войны. В июле 2009 г. в Улан-Баторе состоялся международный научный симпозиум «Халхин-гольское сражение (номонханский инцидент) в мировой истории: познавая прошлое и обсуждая будущее», организованный по инициативе Главного архивного управления Монголии, японской Ассоциации глобальных исследований Секигути и Института истории Академии наук Монголии при спонсорской поддерж США, Кореи. Участие в нем приняли ученые из России, Монголии, Японии, ке нескольких фондов и организаций Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Южной Кореи, Тайваня. Известные востоковеды В.В. Грайваронский и С.Г. Лузянин отметили, что «с течением времени становится все более очевидным, что события на Халхин-Голе не были незначительным пограничным конфликтом, что они оказали непосредственное и весомое влияние на условия возникновения Второй мировой войны, расстановку сил ведущих держав, ход и конечные результаты глобального конфликта, на формирование новой системы международных отношений в регионе и мире» [Грайворонский, Лузянин 2010: 156]. В докладе члена-корреспондента
РАН Б.В. Базарова была раскрыта стратегическая подоплека вооруженного конфликта, связанная со строительством японской стороной железной дороги в Маньчжурии, которая шла параллельно КВЖД на расстоянии 125 км от нее. И по справедливому мнению Б.В. Базарова, «необходимо было упорядочить границу Маньчжоу-Го и Монголии, отодвинув ее на запад до естественного географического препятствия – р. Халхин-Гол» [Базаров 2009: 25]. С 1935 г. началось силовое давление со стороны Маньчжоу-Го.
Итоги симпозиума, а затем торжества, посвященные 70-летию победы советско-монгольского боевого содружества на р. Халхин-Гол, проходившие в Монголии, подвигли нас на выявление степени изученности поставленной проблемы. Следует отметить существенную особенность современной российско-монгольской историографии событий на Халхин-Голе. Некоторые советские, да и современные российские историки считали и считают эти события лишь пограничным конфликтом [Сафронов 1992: 261; Соколов 2001]. Но подавляющая часть современных ученых России и Монголии рассматривают вооруженный конфликт у р. Халхин-Гол не только как конфликт, в основе которого лежали многолетние серьезные противоречия между Россией и Японией на Дальнем Востоке, а, прежде всего, как предтечу Второй мировой войны. И если завершение вооруженного конфликта совпало с ее началом, то дипломатическое его завершение произошло лишь в мае 1942 г. [Бойкова 2013: 9] под влиянием дипломатических усилий СССР и победы Красной армии под Москвой. Окончательное же урегулирование проблемы Халхин-Гола произошло лишь в 1945 г., после завершения Второй мировой войны, что также указывает на несомненную связь вооруженного конфликта на Халхин-Голе и Второй мировой войны.
Предыстория событий на р. Халхин-Гол тесно связана с деятельностью Японской военной миссии (ЯВМ) и ее руководителя Мититаро Камацубаро.
Мититаро Камацубаро родился в 1886 г. в Иокогаме в семье военно-морского инженера. В ноябре 1905 г. окончил Военную академию Императорской армии и с июня 1906 г. в чине младшего лейтенанта служил в 34-м пехотном полку. В 1909– 1910 гг. занимал должность помощника военного атташе в России, свободно говорил по-русски. После возвращения в Японию служил в Генеральном штабе армии Японской империи и Высочайшем военном совете. В 1914 г., во время Первой мировой войны, в составе объединенного командования участвовал в японской военной экспедиции при осаде германской колонии в Китае Циндао британскими и японскими войсками.
В 1915 г. окончил Высшую военную академию Императорской армии и был назначен командующим 34-м пехотным полком. С 1919 г. – в военной разведке, где курировал советскую ветвь 4-й секции 2-го бюро Генерального штаба армии. В 1927–1929 гг. – военный атташе в Москве.
В 1932 г. Комацубара возглавил Харбинское управление контрразведки (Японская военная миссия) в Маньчжоу-Го. С 7 июля 1938 по 6 ноября 1939 г. генерал-лейтенант Комацубара – командир 23-й пехотной дивизии Квантунской армии, дислоцированной близ Хайлара в Маньчжоу-Го. Именно он осуществлял общее руководство военной операцией на Халхин-Голе. В январе 1940 г. генерал был уволен в запас как несущий ответственность за поражение на Халхин-Голе. 6 октября 1940 г. Мититаро Камацубаро совершил харакири [Coox: 1985].
В начале 30-х гг. ХХ в. атаман Г.М. Семенов, будучи лидером русской эмиграции в Маньчжурии и связующим звеном между эмиграцией и ЯВМ, являлся фактическим проводником политики Японии на Дальнем Востоке [Курас 2002: 133]. Как было видно из показаний атамана, он в течение 1934–1936 гг. неоднократно встречался с начальником ЯВМ генерал-майором Риндзо Андо, который предложил ему подготовить проект о возможном создании буферного государства в Советском Приморье, куда затем планировалось переселить эмигрантов, используя для этого методы как идеологического, так и силового давления. Позднее он встречался с бывшим командующим японскими войсками в Китае генералом Императорской армии Котаро Накамуро, который предлагал не ограничиваться территорией Приморья, а расширить территорию буфера до
Байкала 1 . Интересно, что после встречи с Накамурой Г.М. Семенов получил задание вести военную подготовку среди монголов и организовать разведку на территории Забайкалья и Монголии 2 . Именно Г.М. Семенов установил связь с главой Монгольской автономной федерации (Мэнцзян) в Калгане (Внутренняя Монголия) [Дудин: 2014]. Ему же принадлежит идея создания единого монгольского государства (МНР и Внутренняя Монголия) как буфера между СССР и Японией. Через 5 лет после поражения Японии у р. Халхин-Гол начальник ЯВМ генерал-майор Шун Акикуса предложил заменить японские войска в Китае монгольскими, формирование которых предложил осуществить атаману Г.М. Семенову.
С первых дней существования Маньчжоу-Го ЯВМ в своих планах осуществления антисоветской политики делала ставку на русскую военную эмиграцию, которая, по оценке НКВД, насчитывала до 50 тыс. чел. [Белоэмиграция… 1942: 2]. ЯВМ готовилась использовать их в мирное время в качестве разведчиков и диверсантов, в военное время – в качестве авангарда вооруженных сил Японии [Курас 2007: 106]. Именно в этой связи в конце 1934 г. при содействии ЯВМ было создано Бюро по делам российских эмигрантов, которое вскоре было преобразовано в Главное бюро по делам российских эмигрантов (ГБРЭМ), объединившее до 50 эмигрантских организаций [Белоэмиграция… 1942]. Бюро возглавил соратник атамана Г.М. Семенова генерал-майор Л.Ф. Власьевский, а после его смерти в 1934 г. – генерал-майор В.А. Кислицин. Следует отметить, что Бюро располагало серьезной военной силой и в случае начала военных действий могло поставить под ружье до 10 тыс. чел. Вообще идея организации эмигрантских вооруженных формирований, которые должны были стать ядром будущей антибольшевистской освободительной армии, нашла поддержку ЯВМ. Из числа эмигрантов осуществлялись наборы в разведшколы. Так, в Харбине при Русском фашистском союзе с 1932 г. существовала разведшкола, в которой было подготовлено 500 диверсантов. В 1938 г. на ст. Хоньдаохедзы дислоцировалась полицейская школа под руководством полковника Попова, в которой было подготовлено 4 500 боевиков. В 1939 г. ЯВМ на ст. Сунгари создала Сунгарийский отряд сначала под командованием полковника Осаки, а затем – полковника С.В. Смирнова, через школу которого прошло не менее 2 тыс. чел. [Курас 2006]. При этом ГБРЭМ и все его отделения состояли в прямом подчинении ЯВМ, которая через своих советников формировала стратегию и тактику организации. Причем все советники, за исключением двоих (А.Г. Дудукалов и А.В. Зуев), были японцами. Вообще сам статус белой эмиграции в Маньчжурии, ее правовое положение также определялись японцами в секретном документе «Предупреждение по вопросу об обращении с белыми русскими», направленном начальником Хайларского особого органа ЯВМ Суганами Ициро в адрес начальника полицейского управления Северо-Хинганской провинции. «По распоряжению властей руководство белыми русскими, включая также татар и евреев, полностью осуществляется Особыми органами, ввиду чего все серьезные мероприятия в отношении белых русских, как аресты, содержание под стражей и т.д., могут осуществляться только после согласования этого вопроса со вверенным мне органом или его ближайшими отделениями» [Белоэмиграция… 1942: 2].
Качеству работы ЯВМ во многом способствовало тесное сотрудничество с Управлением государственной безопасности Маньчжоу-Го, в задачи которого входили: а) охрана государственной границы; б) защита государственной безопасности (агентурно-оперативная работа против коммунистических и антияпонских движений и вооруженных формирований различной политической окраски), политическая цензура и полицейские функции в приграничных районах; в) контрразведка и внешняя разведка, в первую очередь против СССР «с позиций пограничных провинций» [Полутов 2013: 171]. Деятельность УГБМ велась в обстановке строжайшей секретности: скрывался даже сам факт существования управления.
Для УГБМ важнейшим источником информации о Дальнем Востоке СССР были переб ежчики. В исследовании А.В. Полутова, опирающемся на документы
Квантунской армии, указывается, что с 1936 по 1938 гг. из различных районов советского Дальнего Востока на территорию Маньчжоу-Го перебежало 188 чел. При этом особый интерес представляли перебежчики из числа военнослужащих РККА и погранвойск НКВД. В этом плане для УГБМ настоящим подарком судьбы стал начальник УНКВД Дальневосточного края, комиссар госбезопасности 3-го ранга Г.М. Лелюшков, сбежавший в Маньчжоу-Го 13 июня 1938 г. Основной целью руководства УГБМ являлась активная разработка системы безопасности СССР с использованием агентов-двойников и завербованных перебежчиков. При этом внешняя разведка УГБМ располагала зарубежной сетью резидентов из числа старших офицеров центрального аппарата, в т.ч. действующих под прикрытием дипломатических и консульских учреждений Японии и Маньчжоу-Го на территории Китая и других государств, а основной разведывательной целью госбезопасности Маньчжоу-Го была «деятельность советской разведки против Японии и Маньчжоу-Го с позиций Китая» [Полутов 2013: 175-176]. Вся эта работа осуществлялась при полном контроле ЯВМ в Харбине, которая после поражения Японии в военной кампании 1939 г. была преобразована в разведывательный отдел, а ее отделы на местах – в отделения разведотдела. Эта реорганизация в полной мере коснулась и УГБМ.
Таким образом, японское военное ведомство готовилось отнюдь не к превентивному удару, а методично и планомерно, используя русскую военную эмиграцию, готовила почву для нападения на Монголию и СССР. События на р. Халхин-Гол – яркое тому подтверждение.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии» № 14-18-00552.
Список литературы Японская военная миссия в Маньчжоу-го: подготовка к агрессии (к 75-летию событий на Халхин-Голе)
- Базаров Б.В. 2009. Битва на реке Халхин-Гол в свете восточноазиатской геополитики: исторический опыт и уроки 1930-х гг. -70 Years Since the Nomnhat Incident (Battle of Khalkhyn Gol): Collection of Treatises in the International Symposium in Ulaanbaatar (ed. Imanishi Junko, Husel Borjigin). Fukyosha (Япония). P. 23-59.
- Белоэмиграция в Маньчжурии. В 3 т. Т. 1. Чита: Управление НКВД. 1942.
- Бойкова Е.В. 2013. Введение. -Халхин-Гол: Взгляд на события из XXI века. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 5-10.
- Бушуева Т.С. 2009. Халхин-Гол: взгляд через 70 лет. Малоизвестные страницы предыстории Второй мировой войны//Отечественная история. № 5. С. 34-51.
- Грайворонский В.В., Лузянин С.Г. 2010. Война на Халхин-Голе: место в мировой истории//Проблемы Дальнего Востока. № 1. С. 156-164.
- Дудин П.Н. 2014. Политическая история Мэнцзяна. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 300 с.
- Курас Л.В. 2002. Атаман Семенов и Японская военная миссия. -Сибирь. Век ХХ. Вып. 4. Межвузовский сборник научных трудов. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 131-134.
- Курас Л.В. 2006. Русские фашисты в Маньчжурии в 20-40-е годы ХХ века. -Сэнкай Ки Сибэриа, Монгору-но сэйдзи. Сякай сисутэма-но кайхэй: 1917-1941 (Сибирь в межвоенный период, монгольская политика. Системная перестройка общества: 1917-1941 гг.). Тохоку дайгаку. Тохоку Адзиа кэню сэнта (Университет Тохоку. Тохоку, Азиатский исследовательский центр). Март
- Курас Л.В. 2007. Харбин -30-е годы ХХ века: Главное бюро по делам российских эмигрантов. -Сибирь. Век ХХ. Вып. 5. Межвузовский сборник научных трудов. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 105-111
- Полутов А.В. 2013. Управление государственной безопасности Маньчжоу-Го (1937-1945 гг.)//Вестник ДВО РАН. № 1. С. 169-181.
- Сафронов В.П. 1992. СССР и японская агрессия (1937-1941 гг.). -Советская внешняя политика. 1917-1945 гг. Поиски новых подходов. М.: Международные отношения. 352 с.
- Соколов Б.В. 2001. Советско-японские военные конфликты у озера Хасан и у реки Халхин-Гол (1938-1939 годы). -Сто великих войн. М.: Вече. 432 с.
- Coox A.D. 1985. Nomonhan: Japan against Russia, 1939. California. Stanford University Press.